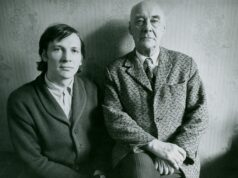Александр Викторович Марков, — философ, переводчик, профессор РГГУ.
В классической литературе время было ясным не в смысле прозрачности его последствий или сопряженных с ним переживаний, но в смысле его как бы «разобранности» по топосам (Ред.: т.е. прикрепленности к определенным периодам человеческой жизни и истории). Золотой век, быстротечные года, ранняя юность и поздняя старость — вне зависимости от того, мало или много мы назовем таких топосов, все они будут покрывать большую часть переживаний и ассоциаций, связанных с действительным движением времени. Но распад классической ситуации привел к тому, что время «проблематизировалось»: оказалось, что есть определенный остаток его переживания, который не может быть ни сведен к готовым топосам, ни встроен в них.
Пример высказывания о таком тайном остатке, когда классическое как ценность и программа еще разумеется само собой как понятное людям культуры, — но когда те же люди не могут не замечать, что различные сегменты человеческой жизни все меньше подчиняются этой программе; и политическое, экономическое и социальное уже заявляют о своей независимости, — знаменитые слова Чаадаева из письма Пушкину весной 1829 г., сказанные зрелому поэту и мыслителю: «Мое пламеннейшее желание, друг мой, – видеть вас посвященным в тайну времени»1 . Переходный и тяжелый, после поражения декабрьского восстания, характер эпохи позволяет понять их по-разному. Сам Чаадаев дальше поясняет, что это означает требование стать современным мыслящим человеком, и «тайна» тогда – залог самостоятельной позиции интеллектуала, занявшего место, которого прежде не существовало. Но можно истолковать приведенные слова иначе: для поэта время всегда тайна, просто потому что поэт подходит к ней не лишь чувственно, но структурно: сознавая, что значит «посвящать», и что значит «тайна».
Один из смыслов такого словоупотребления мы находим в размышлении Ф. Глинки об императоре Николае I, увиденном автором во сне непростом герое эпохи: «Как человек, разгадавший тайну жизни временной, Он возводит очи горé, чтобы прочесть судьбу свою в вечности»2. Тайна жизни временной — то, что мы бы назвали путем всей жизни. Так как начало пути сокрыто в младенчестве, а конец не принадлежит вполне человеку, то жизнь временная и есть тайна, она скрыта от самого человека, пока в последний миг жизни он не разгадает ее, «ухватив» духовную закономерность жизни от начала до самого того мига. Тогда тайна времени – уже не удивительная скоротечность или непостижимость мгновения, но скрытость начал и концов жизни, которая делается открытой только в опыте смерти. Итак, тайна времени страны или человечества, о которой говорил Чаадаев, — это посвященность в общие судьбы человечества, понимание цели всемирной истории.
Время, как все скажут, — магистральная тема поэзии И. Бродского, время как начало катастроф, начало мысли, начало любви. Где время заявляет о себе, там должна заявить о себе мысль. Но, чтобы понять особое видение времени Бродским, обратимся к одному из первых его ценителей и критиков — Юрию Иваску. В статьях о Бродском Ю.Иваск почти ничего не говорит о времени ценимого поэта, а рассуждает только об устройстве его вещественного мира, о перепадах речи, способе обращения с земными и неземными реальностями. Только однажды поэт-критик замечает, что Бродский создал новый ритм, размышления о ходе времени и освоении пространства, который и позволяет не слишком увлекаться привычными ощущениями, но узнать окружающий мир в его вещах: «Бродский стал мастером неторопливой поэтической речи»3.
Точнее Ю.Иваск говорит об этом вопросе в поэме «Играющий человек», противопоставляя Бродского как наследника элегической традиции себе как наследнику анакреонтики. Элегическая традиция «тематизирует» время и поэтому не может измерить временем себя, она только принимает собственную тайну как часть тайны времени. Тогда как анакреонтика не принимает, а отдает тайну: всегда имеет в виду большие временные периоды, утверждает, что особое чувство любви останется на много лет, так что, кроме прерывности разрушения, есть еще непрерывность.Ю. Иваск в поэме не раз сравнивает себя с Анакреоном, называя себя «почти тритыщелетним шустрым Лунем»4. И хотя он вынужден сделать сноску, что это «гипербола» и трех тысяч лет со времени коллеги с острова Теос не прошло, — но сама сноска сообщает, что любые подробности времени как членящей и разрушающей силы ничтожны для анакреонтики в сравнении с возможностью задержать чувство перед собой, распорядиться им так, что его хватает на многие столетия. Ведь язык и интуиции этого чувства не меняются, а, напротив, требуют столетий, чтобы интуитивное было воспринято как серьезное и устойчивое. Так анакреонтика оказывается культурной длительностью, противоположной природному взрыву в сторону культуры.
Если мы предварительно будем располагать Охапкина на этой шкале между элегией и анакреонтикой, то его место может оказаться посередине. Можно назвать правило его разговора о времени «эпиграмматизмом» в античном смысле: эпиграмма как надпись, которая пребывает долго, но именно поэтому всякий раз поражает своей парадоксальностью, что неустойчивое, трепет жизни, равно устойчивому, запечатлевшему ее мрамору или бронзе. Заметим, что, когда Бродский пишет о таких вечных материалах, мраморе или бронзе, он всегда говорит о соревновании: как материалы, слова и идеи соревнуются в распаде. Разговор о материальном не дает повод к остроумию, разве что ведет к сарказму, отступающему перед скептическим наблюдением. Тогда как в поэзии Охапкина материальное бережно принимается как то, что всегда измерено каким-то конкретным временем, днем, неделей, месяцем, годом или столетием.
Е. Ваншенкина в «пионерской» и до конца еще не осознанной по значимости статье, посвященной пространству и времени в лирике Бродского5, выдвигает ряд тезисов, не свободных от преувеличений (прежде всего, из-за того, что философские и культурные коды пространства и времени рассматриваются ситуативно, а не как определяющие концепцию), но вполне образующих лучшее начало разговора о времени у Бродского. Эти тезисы можно изложить так:
1) пространство у Бродского не просто однородно, но сегментировано, благодаря чему оно и может быть собрано по-новому, разыграно как шахматная партия, не теряя в своей безысходности;
2) время у Бродского не просто «векторно» (Ред.: т.е. определенно направлено), но качественно изменчиво: чем более оно протекает, тем больше оно заостряется, течение времени усиливает его конечный напор;
3) пространство, несмотря на однородную «сегментированность», также может заостриться, причем, до предела, в мысли о нем — тогда оно будет мыслиться как рай, предельная недостижимая точка, недоступная мыслящему о пространстве человеку, но доступная вещи (заметим в скобках, что в поэме Ю.Иваска рай учреждается поэтической игрой как длительность, до конца не контролируемая даже вещами в широком смысле);
4) пространство в поэзии Бродского осуществляется как остановка времени, как резкое конструктивное вмешательство в поток времени, чем объясняются свойства пространства;
5) такая остановка времени возможна потому, что поэт утверждает себя во времени, и пространство оказывается побочной проекцией этого утверждения;
6) субъективное вмешательство как поэзии в ход времени, так и времени в поэтическое дело, таковое наложение разнородных субъективностей, приводит к особому качеству пейзажа в поэзии Бродского: этот пейзаж соединяет в себе «разнокачественность» вещей и разную их интенсивность;
7) принятие такого пейзажа Бродским, вместе с рядом других допущений, таких, как «статичность тела» и «агония вещи», и превращает самого поэта в «инструмент языка», в острие, которым язык познает окружающий мир;
8) в таком функционировании поэта как инструмента языка время превращается в «голос», в способ пробудить ото сна, в отличие от письменной речи, принадлежащей миру смерти и конечности, тогда как пространство — в «орнамент», воспроизведение одного и того же паттерна (Ред.: т.е. шаблона, схемы, модели) внимания, который и позволяет отстраненно посмотреть на конечность, конечность и ограниченность паттерна, и тем самым осмыслить ограниченность человеческой жизни. В поэтике такому пониманию времени и пространства как функций смертности соответствует то, что В. П. Полухина удачно назвала «метафора-копула»6 (Ред. : копула – соединение, связка), когда сравнение вещей не уточняет свойства отдельной вещи, но указывает на саму необходимость связи этих вещей, то есть опять же связи заостренной и устремленной в будущее. А И.Романова увидела в перечислениях исследование Бродским первичных субстанций7, которые обладают собственным потенциалом «тематизации» пространства и времени как места смерти и бессмертия, то есть выступают как метафорические «копулы» в мироздании, позволяющие создавать синтаксис времен и того, что за пределами времени.
Последующие исследования поэтики Бродского мало что прибавили к тезисам Е.Ваншенкиной, хотя и уточнили их.
Следующим этапом изучения времени у Бродского стала монография Н. Г. Медведевой 8, недавно от нас ушедшей. Тезисы Н.Медведевой могут быть изложены так:
1) время у Бродского изначально не является предметом личного переживания и личной заинтересованности (здесь исследователь явно расходится с Е.Ваншенкиной), время представляет собой для него самую общую абстракцию созидания и разрушения, и в этом смысле поэт больше наследует философскому, чем жанровому мышлению. (Заметим, что о частичном отказе Бродского от жанрового мышления ради иных способов маркирования поэтического, таких как циклизация, часто писали и другие исследователи поэтики Бродского, например, С.Артемова)9;
2) далее: пространство у Бродского следует понимать не столько как однородное, но прежде всего, как покинутое, в котором следы ушедших тел виднее, чем признаки появившихся, и эта «покинутость «только и связывает его с темой смерти;
3) время у Бродского не может быть сведено к какому-то одному способу протекания, оно имеет как континуальную (вода), так и дискретную (песок) ипостась;
4) в отличие от созидания, разрушение у Бродского способно ускоряться, что выражено образами «песка», «пустыни», «пыли» (в отличие от Е.Ваншенкиной, Н.Медведева здесь видит не обострение чувственности, а невозможность для поэтики Бродского собрать разрозненные и разнокачественные элементы распада воедино);
5) жанровое мышление в поэзии Бродского возможно благодаря особой концепции «я», которое сопоставляется с руиной, выглядит одновременно как памятник и след разрушения, и уже эта руина позволяет нанизывать отдельные жанровые формы — пасторальную, элегическую, любовно-лирическую и другие, с тем чтобы памятовать об их античном происхождении;
6) жанровая форма отрывка оказывается неизбежным продолжением трагедийного мышления Бродского, отрывок — эта трагедия, утратившая темпоральность (Ред.: т.е. протяженность во времени), которую ей придавала жизнь полиса;
7) также и отрывок может утратить не только временные, но и пространственные параметры, — и тогда он остается в поэзии Бродского образом «горя», которое заменяет и пространственные, и временные социальные интуиции;
8) автор как справившийся с горем становится высшей смысловой инстанцией, тогда как язык оказывается создателем всех смысловых инстанций, включая эту, и дальнейшие пространственные и временные интуиции диктуются наличием автора как функции или инструмента языка. При этом сразу надо оговорить, что это понимание автора ближе к модернизму, чем к постмодернизму, где автор превратился в социальную функцию производства высказываний: автор Бродского как раз является первичной интуицией языкового опыта, как пространство оказывается первичной реальностью физиологического опыта, а время — первичной реальностью интеллектуального опыта.
Если подход Е. Ваншенкиной близок критическим онтологиям языка, прежде всего Л. Витгенштейна, то истолкование Н.Медведевой заставляет вспомнить философию Деррида с ее понятиями руины и следа и новейшую философию руин 10, а также современные «плоские онтологии» 11, исходящие из постоянного становления природы, когда и явления, и факты сознания оказываются ипостасями этого становления.
Основные положения Н.Медведевой опять же уточнялись в последующих исследованиях, в частности, в работах Д. Н. Ахапкина, который связал образы будущего и прошлого у Бродского с теми структурами целеполагания, которые существуют в искусстве: эстетическое всегда имеет в виду целесообразность, приведение формы в действие, а значит, созерцание искусства имеет в виду не столько наше преобразование, сколько преобразование целесообразности. Бродский, согласно Д Ахапкину, последовательно «тематизирует» этот опыт отношения и к отдельным произведениям, и к большим социальным реальностям, ( например, империи), как к произведениям искусства 12, что и делает, дополним, Бродского эстетическим предшественником плоских онтологий, если сопоставлять его в этом плане с Охапкиным.
Исследований же о времени в поэзии Олега Охапкина немного, практически все они принадлежат А.Г.Корсунской 13. Если обобщить ее высказывания на этот счет, то они могут быть представлены следующим образом:
1) время у Охапкина является не просто темой размышлений, а специальным предметом (заметим, примерно так, как перечисляемые вещи у Бродского). Подобно тому, как у Бродского вещи раскрывают не столько собственные свойства, сколько способность речи говорить о смерти и бессмертия, так и в поэзии Охапкина время не столько обладает определенными параметрами, сколько позволяет убедиться в том, как устроена речь, как устроена вообще наша способность сравнивать, сопоставлять, создавать свои «метафоры-копулы»;
2) образы времени в стихах Охапкина, такие как «силуэт», «качка», «сдвиг», «ход», «размер», направлены не на «встраивание» времени в чувственные привычки читателей поэзии, но, напротив, на изучение собственных, автономных свойств времени (опять же заметим: как Бродский говорит о свойствах вещей, об их хрупкости или устойчивости не с целью «встроить» сказанное в жанровые ожидания читателя лирики, например, элегические, но чтобы показать автономию вещей и, значит, «неавтономность» языка, который и направляет поэта на высказывания о вещи). Только Охапкин исходит из того, что не язык, но задание свыше направляет на высказывание о времени, и следует благоговейно сказать о физических свойствах времени, чтобы не потратить его на эмоции или готовые шаблоны восприятия прошлого и настоящего;
3) Охапкин обосновывает вместо жанровой системы прежней лирики собственную систему жанровых установок, где есть не «элегия», «лирика» или «эпос», но «доисторическое», «безвременье», «межвременье». В этом смысле Охапкин как бы делает следующий шаг в области поэтики, уже не оспаривая и не деформируя прежнюю жанровую систему, а просто учреждая новую;
4), учреждение этой новой жанровой системы, наконец, означат, что уже созданные стихи не являются просто стихами о времени: они стали частью этого времени, частью истории, частью прошлого, вошли в качественное развитие самого времени, которое мы можем проследить, двигаясь из прошлого, из доисторических времен и «дотворческих» (предшествующих созданию произведения) поэтических интуиций. Множество примеров, приводимых А.Корсунской, подтверждают, что катастрофическое переживание времени как раз является частью переживания творческого акта, создания формы. И «голос» здесь уже не как у Бродского, здесь это функционирование языка, отличающее его от функционирования вещей, но голос, который звучит в момент катастрофы, который и останавливает разрушения, потому что создание новых поэтических жанровых форм, прежде не бывших, оказывается возможным.
Чтобы понять отличие Охапкина от других поэтов «второй культуры» в отношении к времени, равно как и показать и весь спор с концепцией времени Бродского, приведем пример переживания времени из стилизации М. Кузмина «Подвиги великого Александра»:
День и ночь стремился царь ввысь, мимо звезд и планет. Звезды были хрустальные, разноцветные сосуды на золотых цепочках, и в каждой ангел возжигал и тушил ночное пламя; планеты же были — прозрачные колеса, которые по желобам катили десятки ангелов. Голоса навстречу неслись с ветром: «Вернись, вернись!» Наконец издали узрел Александр солнце. Гиацинтовое колесо, величиною трижды превосходящее площадь города Вавилона, катили с трудом по золоченому желобу ангелы с огненными лицами в красных плащах. Царь, закинув голову, кричал в пламенное сияние: «Я — Александр! Я — Александр!» — и орлы клектали семью парами раскрытых ртов. Звук тысячи труб и тысячи громов прозвучал в ответ: «Назад, смертный безумец, я — Бог твой!» Александр, лишившись чувств, опустил копья вниз, и орлы понесли его к земле быстрее безумной кометы. Когда народ, ожидавший царя, восклицал: «Слава Александру, покорившему стихии!» — царь ничего не ответил и, бледный, направился, сопровождаемый толпою, к берегу моря 14.
Кузмин здесь разрабатывал тему tædium vitae, т.е. усталости завоевателя от жизни, чьи успехи не позволяют ему ставить новые цели, а значит, исключают любой вкус к жизни. Но при этом он использует несколько приемов, позволяющих представить природу времени. Прежде всего, синхронизация времени с помощью звезд и планет (подвижных звезд) обернулась «рассинхронизацией»: ангелы хотя и выполняют безупречно высшую волю, но сам этот акт воли может быть представлен и иллюстрирован только дискретно, как ряд последовательных картинок, где различие действий и определяет развитие движений. В каком-то смысле это предвосхищает некоторые модели современной математики и физики, фрактальные и квантовые, где мы можем увидеть дискретный момент и даже вписать его в общее действие воли, но никакого перехода от воли к репрезентации мы знать не можем. Напротив, только это незнание и позволяет вообще говорить о том, что перед нами процесс, что перед нами явление, а не наложение случайных наблюдений. У Бродского в его поэтике времени, где дискретность времени неизбежно дополняется «вниманием» (по Е.Ваншенкиной) или «горем» (по Н.Медведевой), это означало бы, что ангелы выступают как примеры такого внимания или образа горя как фундаментальной нехватки, восполняемой только волей извне. Создаваемый ими паттерн был бы мгновенной утратой темпоральности, принятием Вселенной как морального урока сопротивления, участием в трагической развязке человеческих дел, ничтожных в сравнении со вселенскими, после чего различные жанры «дифференцировали» бы различные переживания времени. У Охапкина эта же картина значила бы совсем другое: ангелы всякий раз подтверждают автономию вещей, и, хотя у них нет своей воли, отличной от вышней, от них могут понадобиться усилия, в том числе огромные (всегда двигать планеты до самого конца мира). И эта уже мобилизация разных усилий (зажечь лампаду раз в день не то же самое, что катить без единого мига отдыха огромный шар) определяет эти новые жанровые формы, например, «безвременья» звезд или «эсхатологического послевременья» (позволим себе такой термин) планет. Эти формы выделяются как дифференциалы того усилия, которое наглядно видно в каждом действии: зажигать или катить.
Далее, основной способ измерения времени, солнечный, определяется не регулярностью астрономических движений, но особо тяжелыми усилиями, которые переходят в голос самого предмета. Ангелы не могут роптать, но Солнце может осадить невероятным по мощности голосом дерзкого монарха. У Бродского такой «голос» означал бы одно: что все империи заканчиваются, имперское можно тогда мыслить только как равное распределение голосов, и в итоге голос солнца просто заменял бы голос ангелов — ангелы слишком одинаковы, слишком паттерны, чтобы раздался голос языка. Поэт (Бродский) в таком случае следит за тем, как этот голос вполне заменил голоса ангелов, и может бесконечно перекодировать эту замену в разные жанры: от трагедии до элегии. Например, если солнце скрывается из виду, это было бы трагическим жанром, а если жар солнца становится для Александра привычным — то элегическим. Охапкин настаивал бы на другом: солнце просто аккумулирует больше свойств времени, чем, например, дождь (в этом его отличие от других поэтов ленинградской «второй культуры», у которых ситуативное исследование свойств времени преобладало над аккумулятивным). При том, что ситуация может мыслиться всецело как духовная, вселенская и эсхатологическая, что показала О. Седакова в исследовании историзма В. Кривулина 15: солнце имеет контур, и облик, и волнуется, и колышется, и грозит. Такое почти фольклорное истолкование образа солнца может разрабатываться путем введения других образов времени и указания на их не-универсальность, на то, что нужно двигаться дальше. Это и происходит в стихотворении «Сырое время», где дождь оказывается частной катастрофой в сравнении со «вселенским пиром» эсхатологии, как мы покажем в подробном прочтении этого стихотворения ниже.
Наконец, движение времени всегда опережает движение эмоции и соизмеримо не только с физическим движением (скорость кометы), но и с психическим (бледность). Конечно, для М.Кузмина, формировавшегося в эпоху изучения скорости психических реакций, от Гельмгольца до И. Павлова 16, именно этот контекст был ключевым. Но в его поэтическом изображении это означает, что раскаяние или разочарование наступает быстрее, чем происходят какие-либо другие процессы. У Бродского это бы значило, что именно раскаяние и разочарование находятся на «острие», что они происходят быстро, и потому в них звучит «голос», который подчиняет все прочие формы существования во времени языку, и только «катастрофическую» форму оставляя для жанров, указывающих на смертность человека. Тогда как у Охапкина такая «катастрофическая» форма бытия есть эсхатологическая форма, указывающая на то, что даже самые стремительные образы обладают собственной длительностью, и эта длительность и реализуется в эсхатологических переживаниях, что мы и видим в финале стихотворения «Сырое время» (1970). Далее мы даем комментарий к этому стихотворению по строфам.
Общий «сюжет» стихотворения — затяжной дождь, который заставляет переживать собственную уязвимость человека. Но эта уязвимость, в отличие от Бродского, указывает не на свойства времени как производящего разрушения наиболее очевидным образом, а на изменчивость вещей, она оказывается лишь небольшой частью общей изменчивости вещей:
Неделю моет фрамугу дождь,
Неделю воет ихтиозавр,
Неделю в позе балетной вождь
Пугает кепкой цветной базар.
В первой строфе даны три режима времени: погодно-природные циклы быта (дождь), архаическое время как постоянно создающее паттерны восприятия для нынешнего времени (ихтиозавр) и время советского общего существования, циклов труда, торговли и отдыха под памятником вождю Ленину, одной из самых узнаваемых частей советского ландшафта. В каком-то смысле монумент заменял часовую башню, указывая правильное направление как правильное время строительства коммунизма, что отразилось и в анекдотических интерпретациях любого городского памятника вождю: например, что он указывает на винный магазин, его рука как стрелка часов, говорящая о времени открытия этого заведения.. У Бродского эта «рассинхронизация» означала бы то, что «руинирование» (Ред.:разрушение) началось не с нас, но в нас продолжается «руинированием» речи, распадом старых жанровых форм и созданием новой поэтики, в которую может вместиться в том числе и насмешка над советским бытом. У Охапкина «рассинхронизация» означает другое — это что-то вроде разных служений ангелов: наблюдая за временем их труда, мы понимаем, где труд, а где отдых, и где и труд, и отдых обрекают нас самих на «руинирование». В следующей строфе оно оказывается не эффектом времени, а эффектом такой «рассинхронизации» различных трудов, душевного и телесного:
С душой, разбитой параличом,
Живу неделю, ничем, ни в чем
Не виноватый, уж так пришлось,
Неделю силюсь жить на авось.
Здесь следует пояснить, что «на авось» означает не столько неразборчивость, сколько готовность выкрикнуть это чужое слово, «авось получится». У Бродского такой крик, голос мог бы быть завершением стихотворения, показывающим, что определенная цель уже проговаривается в голосе и художественная форма, преодолевающая время, осуществилась прямо сейчас. У Охапкина же — это часть прелюдии, где голос оказывается сдавленным, бессильным, деформированным так же, как и другие вещи, и столь же нуждающимся в очищении и спасении:
Живот в неврозе. Итак, свищу.
По жилам – пламя. Не это ль – ад?
Стихи обрыдли. А впрочем, лад
Стихов зависит oт жизни, oт
Движенья мысли Господней. Год
Семидесятый тяжёл. Грущу.
Грустят и музы в стране солдат.
Фирменный прием Бродского, анжамбеман (т.е перенос), здесь — «межстрофный», позволяет ввести картину ада, чистилища и рая. «Ад» — это готовность смириться с потерями, с разрушением организма, и то самое «пламя» — это не столько возбуждение, сколько саморазрушение, которое можно проследить по прямым, а не по косвенным признакам. «Чистилище» — зависимость лада стихов от жизни, что вполне отвечает и дантовскому чистилищу, где ритм движения меняется, и соответственно -«лад» высказываний участников. Наконец, «Рай» — это грусть муз: они должны молчать «среди солдат», но они грустят, иначе говоря, они провожают всё мирское, устраивают проводы всего, очень долгие, так что всё, в том числе «рай» слов, оказываются на отдалении от привычек, которые могли бы эти вещи исказить. Но далее прощание оказывается прощанием с веком, миром сим:
Студенты едут на трудсеместр.
Военным цветом их век одел,
Десантник старый… Знать, не у дел
Томится, сука, историк-монстр.
Век оказывается здесь не тем, что есть век у Бродского: всегда наибольшая единица времени, превышающая человека. Здесь век — это нечто томящееся, как солнце у Кузмина, что вызывает сразу множество образов времени, таких как колорит времени, старение во времени, наконец, пугающая известность всего, что во времени произошло («историк-монстр»). Мы видим, что колорит, старение и «монструозность» оказываются свойствам времени, это далее и изображается как переход от шекспировской драмы, драмы характеров, раскрывающихся в ситуации любви, к эсхатологической драме:
Не я ль обманут, Шекспир, тобой?
Ты обещал мне любви гобой.
Но что я слышу! Аж пот со лба…
Ревёт архангел. Нам всем труба.
Эсхатологическая драма как раз не создает культ «неотменимого» голоса, но, напротив, показывает, что голос не так важен в сравнении с реакцией: «нам всем труба». Метафора «труба архангела» оборачивается разговорным выражением, обозначающим безысходность. Таким образом, голос, который у Шекспира был мелодией, здесь становится единственным способом соотнести настоящее и будущее, это уже не финальный голос, но связка. Можно назвать это не «метафорой-копулой», а «синекдохой-копулой», имея в виду, что подразумеваемая параллель выражения, паралич речи, оказывается и параличом сюжета: сюжет далее не может быть развит. Вместо развития сюжета появляется указание на разные «перекодировки» времени: мифолого-натуралистическую (небесная корова, как у египтян), эзотерическую (деятельность Я. Брюса), религиозную (обличение лжи и очищение). Опять же, все три перекодировки не существуют как отдельные сюжеты, как отдельные поводы для размышления, как это было бы у Бродского, но могут только вместе выражать то самое опережение временем не только действия, но и чувства. Мы еще не успели приобрести интуицию питания, понимания или чистоты, но уже время нас опередило, так что можно только застыть на нулевом градусе:
Неделю брызжут сосцы небес.
Но, знать, не промах был старец Брюс,
Когда составил свой календарь.
К неурожаю дождит июль.
Одна отрада: смывает гарь
Со стекол, с неба, да лжи вуаль
Срывает ветер. Мой градус – нуль.
Градус- нуль можно понимать как нечто вроде «нулевой степени письма», по Барту, письма без разделяемых установок. Но можно понимать и так, что нет той точки зрения, которая позволяла бы организовать пейзаж и натюрморт, по Бродскому, как обособление разнокачественных и «разноинтенсивных» сегментов: ведь каждый сегмент еще не стал собой, он порывист, он захватывает больше, чем надо: уже не одну неделю, а весь июль. Поэтому появляется далее тема заговора, иначе говоря, присвоение каким-то сегментом уже всех вариантов протекания времени: от мига как взгляда до плодоношения как процесса:
Неделю прожил. Гляжу в окно.
Сад плодоносит с натугой. Мир
Стал заговорщик. В шкафу сукно,
И то стареет, как все теперь.
Желудки старит советский жир.
Господь вселенский готовит пир.
Секирой время стучится в дверь.
Всеобщее старение завершается темой сукна, одновременно указывающего на ткань времени и на письмо, «суконный» стол, бюрократический учет, который при этом не способен производить ничего, но только накапливать жир. Такому письму противопоставляется эсхатологическая книга судеб, указывающая на многих званых и малых избранных, приглашенных на пир Жениха. Соединение нескольких евангельских притч: притчи о званных на пир, о секире при корне дерева и про Жениха, который придет внезапно — позволяет понять письмо не как постоянное «руинирование» вещей, соревнующееся с «руинированием» слов, но как способ каталогизации.
Если Бродский создает каталоги вещей, которые обладают собственной равнодействующей хотя бы потому, что они могут быть охвачены одним взглядом, стать тем самым противовесом языку, который говорит через поэта, — то Охапкин исходит из того, что вещи невозможно охватить одним взглядом, можно только соединить притчи, по отношению к которым запись будет лишь частным эпизодом. Запись «руинируется», но еще быстрее притча опережает и «скорость метеора», и его «бледность», потому что она уже стала эсхатологическим выводом из того образа жизни, где все притчи уже рассказаны. Время тем самым оказывается противовесом рассказу: рассказ можно не завершить — но если притча уже рассказана, уже прозвучала, то любое целесообразное время, которое смогло воспроизвести хотя бы один паттерн чувства в точности, оборачивается эсхатологическим временем. Оно у Охапкина и есть единственная «тайна времени», заслуживающая посвящения в неё.
Примечания
1.Чаадаев П. Я. Философические письма / ред. А. А. Тесля. М.: Рипол-Классик, 2017. С. 208.
2.Глинка Ф. И. Религиозная проза: сны и видения. / ред. С. А. Васильева. Тверь: Изд-во Батасовой, 2011. С. 190.
3.Иваск Ю. П. Похвала российской поэзии. Таллинн: Александра, 2002. С. 230.
4.Иваск Ю. П. Играющий человек. New York: Third Wave Publ., 1998. С. 108.
5.Ваншенкина Е. В. Острие: пространство и время в лирике Иосифа Бродского // Литературное обозрение. 1996. № 3 (257). С. 35–41.
6.Полухина В. П. Грамматика метафоры и художественный смысл // Полухина В.П. Больше самого себя. О Бродском. Томск: ИД СК-С, 2009. С. 177–212.
7.Романова И. В. «Самостоятельная реальность» перечислений в лирике И.Бродского // Подробности словесности: сб. ст. к юбилею Людмилы Владимировны Зубовой. СПб.: Свое издательство, 2016. С. 291–308.
8.Медведева Н. Г. «Муза утраты очертаний»: «Память жанра» и метаморфозы традиции в творчестве И. Бродского и О. Седаковой. Ижевск, 2006.
9.Артемова С. Ю. К проблеме циклизации стихотворений И. Бродского // Новый филологический вестник. 2007. Т. 5, № 2. С. 139–143.
10.Хеллер-Розен Д. Разрушение традиции: об Александрийской библиотеке. М.: V-A-C; Центр экспериментальной музеологии, 2018.
11 Харман Г. Сети и ассамбляжи: возрождение вещей у Латура и Деланда // Логос. 2017. Т. 27. № 3 (118). С. 1-34.
12.Ахапкин Д. Н. Бродский и Вергилий: эклоги для нового времени // Новое литературное обозрение. 2021. № 3(169). С. 285–300.
13.Корсунская А. Г. О. А. Охапкин и Н. А. Козырев: вопрос времени // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2019. № 10 (143). С. 251–254.
14.Кузмин М. А. Стихи и проза. М.: Художественная литература, 1989. С. 196.
15.Седакова О. А. Очерки другой поэзии. Очерк первый: Виктор Кривулин // Седакова О. А.
Проза. М.: Эн Эф Кью / Ту Принт. 2001. С. 684–705.
16.Котомина А. А. Ловец мгновений [конспект лекции]. URL: https://iq.hse.ru/news/532830742.html (дата обращения: 30.07.2022)
На заставке: Тициан. Аллегория времени, которым управляет Благоразумие.1570.Национальная галерея, Лондон.
© А.В.Марков, 2023
© Альманах «Охапкинские чтения №4.Наука и поэзия», 2023
© НП «Русская культура», 2024