 Игорь Гулин — поэт, критик. Родился в 1985 году в Москве. Окончил Историко-филологический факультет РГГУ, а также Институт «Про-арте» по программе «Культурная журналистика». Работает обозревателем журнала «Коммерсантъ-Weekend», писал о литературе для портала OpenSpace.ru. Занимался творчеством Константина Вагинова. Стихи Игоря Гулина опубликованы на сайтах «Полутона» и «Новая Камера Хранения», в сетевом журнале «TextOnly». Один из соучредителей литературной премии «Различие», соредактор журнала «Носорог».
Игорь Гулин — поэт, критик. Родился в 1985 году в Москве. Окончил Историко-филологический факультет РГГУ, а также Институт «Про-арте» по программе «Культурная журналистика». Работает обозревателем журнала «Коммерсантъ-Weekend», писал о литературе для портала OpenSpace.ru. Занимался творчеством Константина Вагинова. Стихи Игоря Гулина опубликованы на сайтах «Полутона» и «Новая Камера Хранения», в сетевом журнале «TextOnly». Один из соучредителей литературной премии «Различие», соредактор журнала «Носорог».
Песни отступничества и благодати
В замечательной серии «Часть речи» издательства «Пальмира», постепенно образующей полноценную библиотеку петербургской поэзии ХХ века, вышла новая книга — избранное одного из духовных лидеров ленинградского андерграунда, поэта Олега Охапкина.
В литературной репутации Олега Охапкина есть странность. Его нельзя назвать забытым поэтом. Наоборот: имя Охапкина произносится с придыханием, неизменно поминается в ряду главных фигур поэтического подполья 1970–1980-х, служит точкой консенсуса для модернистов и почвенников. Несмотря на это, он остается автором будто бы не совсем прочитанным. На фоне новаторства большинства его друзей слишком целостные, нарочито традиционные охапкинские стихи сбивают с толку. Их кажущаяся наивной гармоничность вступает в диссонанс с драматичной, будто бы чрезмерно романтической судьбой автора.
В 2008 году Охапкин в очередной раз попал в психиатрическую больницу — и в то же день умер при не совсем ясных обстоятельствах. В этом же здании он родился в 1944 году, вскоре после снятия блокады. Само это рождение постепенно обросло легендами. Нянечка в роддоме, впоследствии взявшая мальчика на воспитание, оказалась из последователей Иоанна Кронштадтского и увидела в новорожденном того ангельского младенца, спасительный приход которого в годину бедствий чаяли «иоанниты». Под грузом этой пророческой миссии — то принимая, то отвергая ее — Охапкин прожил всю жизнь. Метания принимали разные формы. В ранней юности — поездки по монастырям, общение со старцами, пение в хоре и подготовка к духовному подвигу. Затем — подростковый бунт. После — почти сложившаяся музыкальная карьера: Охапкин обладал впечатляющим басом, и педагоги видели в нем нового Шаляпина. Затем — еще одно бегство, типичные для ленинградской богемы метания по случайным работам: дворник, реставратор, кочегар и т. д., сопровождавшиеся питием и бурными любовными похождениями. Случайное знакомство с Бродским на заброшенной колокольне Смольного монастыря, определившее выбор главного в жизни занятия (и тоже превратившееся в маленький миф). Роль одного из идеологов поэтического андерграунда 1970-х. Затем — религиозное диссидентство, вызовы в КГБ, суды над друзьями, душевная болезнь, после которой литературная активность перемежается скитаниями по психушкам. И все это время — стихи.
Понять то впечатление, которое они производили на современников — а о потрясении при первом знакомстве с поэзией Охапкина пишут почти все мемуаристы,— сейчас не так просто. Дело, кажется, не только в мистической ауре, окружавшей поэта. Важную роль играло исполнение: Охапкин читал своим мощным, поставленным голосом церковного певчего. Однако это уверенное чтение-пение тоже было важно не само по себе, а как выражение определенной поэтической веры.
Дело в том, что к героической роли подпольного поэта неизбежно прилагался ряд комплексов: чувство невидимости, отверженности, бесправия, фатальной оторванности от читателя и неуверенности в праве наследования по отношению к великой поэтической традиции. Эти проблемы решались через достоевские метания, нигилизм, карнавальную игру масками, но стояли они перед каждым большим поэтом, кроме разве что Бродского (но и у того культурная самоуверенность окрашивалась в тона иронической меланхолии). Охапкин был лишен этих комплексов от рождения. Он был уверен в собственном праве на речь, в миссии.
Он писал так, будто бы никакого разрыва в традиции не было: ставил эпиграфы не только из Ахматовой и Мандельштама, но из Лермонтова, Пушкина, Державина, вступал с ними в прямой диалог, не окрашенный сомнениями и иронией. Современников это заражало, они нуждались в таком гаранте поэтического права. В ответ на этот запрос Охапкин предлагал им концепцию «бронзового века» русской поэзии. Выражение это означает вовсе не упадок, как часто считают. Напротив: прямое наследование векам серебряному и золотому. Перечисленные в одноименной поэме герои бронзового века, охапкинские друзья-поэты,— гонимые пророки, несущие слово сквозь темные времена к неведомому будущему.
Эта поэтическая миссия не то чтобы заменила для Охапкина духовную избранность, скорее она вступала с ней в сложные отношения. Он писал дурашливые тексты о ленинградском богемном быте, наивные стихи о судьбе родины, по-настоящему прекрасную эротическую поэзию, но большая часть его стихов посвящена отношениям с Богом. Это оды, гимны, акты благодарения и покаяния, почти молитвы. Точнее так: это то, что возникает на месте молитвы, в культурном зазоре от нее, в невозможности прямого обращения.
Кажется, что, выбрав литературу, а вместе с ней — греховный мир богемы, Охапкин никогда не прекращал чувствовать духовное, пророческое предназначение. Он ощущал себя пророком как бы отступившим, бежавшим, и искал искупления. По очереди примеряя на себя образы библейских персонажей, он обнаруживал совпадение контура собственной судьбы с историей Ионы (ему посвящена завершающая книгу поэма) — и в спасении пророка от Господнего гнева видел для себя обещание.
В отличие от Бродского, для Охапкина культура во всем ее великолепии оставалась предательством, отступничеством. Чтобы разглядеть эту драму в гармонии его стихов, нужно усилие. Но сердце их составляют именно сомнение в такой уж большой ценности поэзии и, что важнее,— надежда хоть негодными средствами, но все же прийти к благодати.
Сны
Лишь грусть во мне откроет зренье,
И я увижу мир иной,
И это будет уверенье,
Вотще отвергнутое мной.
Да, живы мы в дому убогом
Природы — матери-земли,
Но эта жизнь в долгу у Бога.
Ей, Господи, долги вземли!
И оживет уже в посмертьи,
И там во сне увидим сон —
Вот это солнце в синей тверди
С его сияющим венцом,
И тех, кто нас печально ищет
На этих пройденных путях,
Весь этот мир земной и нищий,
У смерти бьющийся в сетях.
И с грустью дальнею очнемся
И примиренно станем ждать,
Но в смертный мир уж не вернемся
Скорбеть, стареть и увядать.
Лишь иногда во сне тревожном,
Как бы предчувствуя беду
Для тех, живущих в невозможном
И отуманенном бреду,
Мы к ним возможем появиться
И с ними встретимся во сне,
Где снова слезы будут литься,
Но благодатней и ясней.
Так встречи наши молчаливы
И непредвиденно грустны.
Но где-то есть тот мир счастливый,
Куда нас жить уводят сны.
Олег Охапкин «В среде пустот». Издательство «Пальмира», 2018
Впервые опубликовано: Журнал «Коммерсантъ Weekend» №32 от 21.09.2018, стр. 37
Бог из комнаты
О поэзии Василия Филиппова
В издательстве «Пальмира» еще в прошлом году вышла, но осталась практически незамеченной книга «Карандашом зрачка» — посмертное избранное Василия Филиппова, одного из самых трагических и одновременно счастливых гениев ленинградского поэтического подполья.
В поэзии советского времени есть несколько фигур, как бы завершающих ее, предлагающих свои варианты эпилога. Одна из них — Василий Филиппов. Он умер в 2013 году, но к этому времени 20 лет не покидал психиатрической больницы, казался автором навсегда замолчавшим, будто похороненным при жизни. Те крохи его новых стихов, что появлялись в печати в 2000-х, лишь подтверждали это отсутствие — звучали как призрачный голос из посмертья. Для своих читателей Филиппов остался жителем 1980-х годов, воздухом которых питалась его поэзия. Сама его отчетливо литературная судьба кажется инсценировкой трагедии романтического гения в непригодных для того удушливых декорациях позднего застоя.
Невероятный красавец, трепетный юноша, сын благонадежных советских интеллигентов, он поступает на биофак и почти сразу бросает науку ради богословия и подпольной литературы. В середине 1970-х Филиппов входит в мир ленинградского андерграунда, знакомится с Виктором Кривулиным, Еленой Шварц, Александром Мироновым. Начинает писать первые эссе, стихи и прозу.
Кое-что из его ранних рассказов впервые опубликовано в этой книге. Главное в них — предчувствие огромного события: откровения, обрыва, духовной смерти и рождения для новой жизни. Это невыносимое напряжение окончилось срывом. В 1979-м, после попытки отцеубийства, Филиппов попадает в больницу и в следующие пять лет испытывает на себе всю мощь советской психиатрии. Он выходит на свободу человеком оглушенным, нежеланным гостем во внешнем мире. И именно тогда начинает писать свои настоящие стихи.
Почти весь корпус его текстов написан за два года: с лета 1984-го по лето 1986-го. Это захлебывающийся поток речи. Одно стихотворение рождает другое, границы между ними — не смысловые разделы, а что-то вроде вынужденного выдоха. Филиппов фиксирует мельчайшие события: разговоры с бабушкой, визиты Аси Львовны (опекавшей его учительницы, немного нелепой наставницы-музы), встречи с друзьями-поэтами, любовные свидания, визиты к врачам, походы в церковь, чай, алкоголь, сигареты, газетные новости, любимые книги.
После болезни и больницы у него не было сил на сосредоточенное письмо. Он нашел выход в прямом, избегающем отбора и отделки переводе в поэзию всей материи повседневности. Это метод минимального усилия, предельной простоты средств: расшатанный ритм, наивная рифмовка — минимум того, что делает речь стихами.
Однако это «слабое» письмо обладает огромной силой, подвергает обыденную реальность непрерывной трансформации. Знакомые, герои книг и новостей теряют свои очертания, превращаются в фантастические фигуры. Комната, город, икона, лес, книга мешаются в единое синкретическое пространство. Действие в нем разворачивается по диковинным, устанавливаемым прямо здесь новым законами.
До своего кризиса Филиппов живет эсхатологическим ожиданием. После — он пишет так, будто это обетование уже сбылось. Открывшийся невиданный новый мир оказался миром старым, знакомым — Ленинградом середины 1980-х. Его ангелы и бесы — поэты, близкие, врачи. Откровение в том, что мир этот — вроде бы очень крепкий — на самом деле шаток, неустойчив, и оттого способен на чудо. Его надо лишь подтолкнуть. И здесь идут в ход младшие сестры духовного экстаза и безумия — опьянение и поэзия.
Во вдохновенном потоке филипповской речи есть механика, система приемов. Поэтические средства становятся у него средствами мистического делания, своего рода символистской теургии. Его странные метафоры-сближения (лица-лепестки, головы-орехи, платья-овчарки) не открывают тайную суть вещей, не создают аллегорического значения. Они изменяют мир и людей — выдают им новые тела, как после воскресения из мертвых, превращают Ленинград в райский сад (возможно, поэтому тела самого поэта и его любимых обретают скорее растительную, чем животную природу). Эти стихи скорее не описывают, а возвещают, пророчествуют — Филиппов любит будущее время больше прошедшего,— но пророчества эти о самых простых вещах: о том, как выпишут таблетки, как будет ругаться бабушка, как позвонит Дева, как Ася Львовна придет в гости. У них нет силы на большее.
Преображение мира и человека, которое происходит в стихах Филиппова,— это не спасение. Метаморфозы, что мы наблюдаем здесь,— не обещания перемены, но ее последствия. Эти последствия недолговечны. Конец наступил. Поэзия не возвещает и не отменяет его — скорее как бы растягивает последнее мгновение, обживает его, творит чудеса силой задержки.
Эта сила иссякает на глазах. К концу 1980-х Филиппов все чаще возвращается в больницу, все меньше пишет. Одновременно исчезает и тот одухотворенно-заброшенный позднесоветский Ленинград с его подпольной поэзией, уступая место новому миру, не вмещающему бредовой благодати филипповских стихов. Закат города и конец речи сливаются в тексте «Тихо, Господи, тихо», последнем в этом сборнике. Филиппов уходит в тишину, и в этот момент Бог впервые становится для него не свидетелем и соучастником чудес, а собеседником.
***
Все ушли,
Оставив меня одного на постели-мишени
В комнате книг-наваждений.
Можно смотреть в окно на света топор.
На подушке отпечаталась голова-мухомор.
Сплавлять лес папирос по реке губ — пережевывать «Беломор».
Взгляд смотрит в упор.
Дремлет город, завернутый в газету полдня.
Кто-то едет ко мне сегодня
Под косынкой, в которую завернуто лицо — шероховатый хлеб слов.
Двери пока закрыты на засов,
Но раскроются и впустят радость Господню
С волосами, подвязанными алой ленточкой губ.
Не укусишь!
Яблоко щеки падает на паркет-траву.
Яблоком походки живу.
Глаза возведёт к потолку
И увидит люстру-сову.
Зрачок-мышь скроется в траве рук.
Утопленница ходит по комнате.
Волосы колотятся о раму.
Рыбак лежит в постели и белка пугливо озирает панораму.
Свернётся железной чешуей хвоста,
В руке игла,
И вышито: «Не дамся».
Волны прически бьются о песчаник головы,
И глаза — два оленя на берегу.
Лицо — пастбище глаз.
Утопленница рассмеётся рыболовной сетью.
На берегу кожи рыбак и его дети.
***
Тихо, Господи, тихо
Так что хрустит на зубах повилика
Дико
В этом мире
Но я не один
Со мной моя комната
И книги
Толстые тома
Словно дома
Где скрывается тьма
Город где живые письма
Ходят по улице часы
Носят нательные кресты.
Василий Филиппов «Карандашом зрачка». Издательство «Пальмира», 2017.
Впервые опубликовано: Журнал «Коммерсантъ Weekend» №7 от 06.03.2018, стр. 26
Утопия подпольного человека
О поэзии Виктора Кривулина
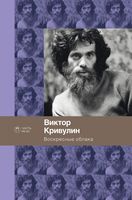
В издательстве «Пальмира» вышла большая книга поэта Виктора Кривулина. Важнейшие для литературы советского андерграунда, его стихи конца 1960-х — начала 1980-х годов впервые доступны широкому читателю.
Виктор Кривулин был одним из центральных авторов ленинградской подпольной литературы. Его стихи ходили в самиздате, печатались в Париже. Однако в 1990-х, когда его товарищи по андерграунду стали открыто публиковаться в России, Кривулин запретил печатать свои старые вещи. Он умер в 2001-м, спустя восемь лет вышел небольшой сборник «Композиции», но эта книга впервые представляет его главные тексты в относительно полном объеме.
Лучшие стихи Кривулина принадлежат советским 1970-м — их тягостной и тягучей бессобытийности, еще отчетливее чувствующейся в провинциально-имперском Ленинграде. Особенно — в незримости и немоте подполья.
Среди поэтов андерграунда Кривулин больше других размышлял о самой природе подпольного существования. О прямо наследующем героям Достоевского состоянии сознательной, но почти невыносимой изоляции. Однако такой уход от мира становится в его стихах местом не только потерянности, сомнения, но и духовной сосредоточенности. Выпадая из своего времени, «житель подполья» отдает себя времени другому — счет которого идет на тысячелетия. Он становится свидетелем незримого хода большой истории, посвящает себя аскезе напряженного ожидания, внимательности. Подпольное существование сродни христианскому посту или монашескому подвигу — усилию воли, веры, взгляда.
В одном из стихотворений-манифестов (таких у Кривулина несколько) он пишет: «дух культуры подпольной, как раннеапостольский свет, брезжит в окнах, из черных клубится подвалов». Одна из главных особенностей его текстов: в их мрачном мире все залито светом.
Этот свет — как рентген — пронизывает тусклое ленинградское существование и обнажает под ним вековой скелет. Среди пыли, рухляди и запущенности позднесоветского мира высвечиваются идеальные кристаллические структуры вещей и понятий. Его любимые образы — геометрические, объемные сферы — те, в которых эта структурность наиболее отчетлива: цветок, плод, здание, город, тело.
Такие же сферы и кристаллы представляют собой объединенные сложными сетями мотивов циклы и книги, в которые Кривулин объединял свои стихи. Таковы же и сами его стихотворения — сети риторических конструкций, будто бы превращающих текст в трехмерное тело. Такова же в его мире цель человека — принять форму, обнаружить место, «человеческий проем» в структуре бытия и заполнить его. Стать мыслящей призмой, через которую пройдет этот свет, чтобы проявить истину вещей.
Но также свет этот несет миру обетование — обещание события, природа которого у Кривулина мерцает между мессианским разрешением и политической переменой, возвращением истории.
Постепенно эта утопия расслаивается: пророческая сила подпольных экстазов лишь яснее оттеняет бездвижность и заброшенность социальной реальности. В конце 1970-х Кривулин пишет: «В Москве политика, а здесь настолько тесно, и столь нечеловечески светло, что легче устоять при полном мраке».
Последней вспышкой свет озаряет пространство его стихов в начале 1980-х. Дальше начинаются перемены. Они не выглядят исполнением обетования. Вторжение реальной истории разбивает возникавшие на пустынном свету застоя идеальные формы вещей и идей на осколки. Распад этот Кривулин безжалостно фиксирует в своих поздних стихах. В них есть политическая злость, трагическая язвительность, совсем другого рода мудрость и, скажем так, обида на историю. Возможно, именно из-за этой обиды Кривулин и не хотел публиковать в эту новую эпоху свои старые стихи, требующие совсем другого хода времени.
* * *
Что увижу — всё белое,
будто слабая марля наброшена.
Для того и зима — только отбел иной белизны.
Что ни отпил от жизни — всё ясная, целая.
В социальном ничтожестве, в подлинной муке прохожего
разве мы до последнего доведены?
Да и смерть не окончена.
Для умершего свет продолжается:
слой за слоем белила ему на зрачки
аккуратная кисточка жестом наносит отточенным,
но с чужим выражением жалости —
молодая такая старушка, ребенок почти…
* * *
Мне камня жальче в случае войны.
Что нас жалеть, когда виновны сами! —
Настолько чище созданное нами,
настолько выше те, кто здесь мертвы.
Предназначенье вещи и судьба
таинственны, как будто нам в аренду
сдана природа,но придет пора —
и каждого потребует к ответу
хозяин форм, какие второпях
мы придали слепому матерьялу…
Предназначенье вещи — тот же страх,
что с головой швырнет нас в одеяло,
заставит скорчиться и слышать тонкий свист —
по мере приближения все резче.
Застыть от ужаса — вот назначенье вещи,
окаменеть навеки — мертвый чист.
Удлиненный сонет
Людского хвороста вязанки. Мне пора давным-
давно с толпою примириться
и самому в себе толкаться и толпиться,
да и душа созрела для костра.
Но встретится лицо — не то, что лица.
Придвинется Лицо — что в озере утра
всех серебристых рыб влюбленная игра,
всех солнечных колес сверкающие спицы.
Тогда-то и себя увидишь, но вдвоем:
над озером струится светлый дом,
его зеркальный брат на круге зыбком замер…
Один во множестве и множество в одном —
два одиночества, две силы движут нами.
Меж небом в озере и в небе небесами
есть как бы человеческий проём.
Виктор Кривулин. Воскресные облака. Издательство СПб.: Пальмира, 2017
Впервые опубликовано: Журнал «Коммерсантъ Weekend» №8 от 17.03.2017, стр. 36
© Гулин Игорь, 2018
© Журнал «Коммерсантъ Weekend», 2018
© НП «Русcкая культура», 2019









