 Что общего в понимании красоты между Владимиром Соловьевым (1853–1900), русским религиозным философом конца XIX века, и современной британской писательницей Зэди Смит (р. 1975), расцвет творчества которой приходится на начало XXI века? Каково значение красоты в современном мире? Как распознается в обоих случаях идея абсолютной красоты в контексте личного спасения? Попытаемся приблизиться к пониманию ответов на эти вопросы.
Что общего в понимании красоты между Владимиром Соловьевым (1853–1900), русским религиозным философом конца XIX века, и современной британской писательницей Зэди Смит (р. 1975), расцвет творчества которой приходится на начало XXI века? Каково значение красоты в современном мире? Как распознается в обоих случаях идея абсолютной красоты в контексте личного спасения? Попытаемся приблизиться к пониманию ответов на эти вопросы.
Вряд ли можно говорить о прямом влиянии философии Владимира Соловьева на Зэди Смит. Утверждать общность и искать взаимосвязи в этом, казалось бы, соеди нении несоединимого, могло бы являться абсурдом. Однако мир идей существует в едином внеэпохальном и вневременном пространстве, сталкивая и приближая умы, принадлежащие разным реальностям.
нении несоединимого, могло бы являться абсурдом. Однако мир идей существует в едином внеэпохальном и вневременном пространстве, сталкивая и приближая умы, принадлежащие разным реальностям.
В этой статье мы будем использовать работы В. Соловьева, в которых содержатся важные элементы представления о красоте, и проецировать эти идеи на происходящее в романе З. Смит, написанном более чем через сто лет: В. Соловьев. «Красота в природе» (1889); «Общий смысл искусства» (1890); «Смысл любви» (1884); «Что значит слово «живописность» (1897); Зэди Смит. О красоте (2005).
Красота и идея блага
Следуя Платону, В. Соловьев понимает красоту как воплощенную идею. «Красота или воплощенная идея есть лучшая половина нашего реального мира, именно та его половина, которая не только существует, но и заслуживает существования. Под идеей мы называем то, что само по себе достойно быть». Он рассматривает красоту, истину и благо как объективные начала, составляющее всеединство мира. Красота в этой триаде – не качество, но некое свойство сущего, которое не возникает случайно, спонтанно из ниоткуда, оно – субстанциально. Красота сопрягается с благом, преображает вещественное бытие в нравственный порядок. Это один из основных тезисов В. Соловьева в понимании красоты.
События XX века, из стороны в сторону подрывая и «раскачивая» идею красоты, показали, что эта идея не являлась доминирующей в человеческом сознании. Однако параллельно с преодолением последствий войн и политических противостояний XX века, идея красоты сохранялась в художественном мышлении, приобретая новые пост-постмодерновые формы.
Роман З. Смит – тонкий, лиричный текст о присутствии красоты в обыденной жизни, в любви и верности, в искусстве, в понимании Бога-Творца. Перед нами кампусный роман, фабула которого строится на конфликте, мировоззренческой вражде двух академических семей: либерала и демократа Говарда Белси и консерватора Монти Кипса, преподавателей Университета в Веллингтоне. Роман философский, культурологический, политический, сексуальный, затрагивающий множество этических и нравственных вопросов, которые лучами сводятся к одной точке – точке красоты – написан под влиянием работы нашей современницы Э. Скайри «О красоте и правильности», в которой американский профессор рассматривает этическую и моральную стороны красоты.
«Красота есть спутница истины, но они не неразличимы. Нельзя сказать ,что стихотворение красиво и, следовательно, истинно. Но своей красотой оно приближает нас к истине, дает опыт убежденности в своей правоте так же, как предоставляет опыт ошибок. Это та предрасположенность к ошибкам, из-за которой красоту часто презирают и считают обманчивой, далёкой от истины. Но сама тяга к истинному является наследием прекрасного. Находясь на эстетически неровных поверхностях мира, красота порождает стремление в прочной уверенности в чём-то. Порождая эту уверенность (мнимую, временную?) красота уводит от эгоизма».
Идеальная и реальная красота
Красота служит бытию, воссоединяет идеальное и реальное, субъективное и объективное. В.Соловьев не был сторонником «чистого искусства, искусства для искусства». Красота, по Соловьеву, есть соединение духовного содержания и чувственного выражения, находящееся в движении, в процессе становления прекрасного, где красота – носительница преображающей силы. Красота должна быть понятна через действительные её проявления и через область искусства. Но именно в понимании красоты как сущности искусства начинаются расхождения в определении.
Является ли красота самозамкнутой, существующей как «вещь в себе», явлением «искусства для искусства», свободного от социума и от политики.
Напоминаем, что концепция «искусства для искусства» сформировалась во Франции, была явлена миру в 1833 году, однако ранее появлялась у мадам де Сталь в эссе «о Германии» (1813). Последователями были Теофиль Готье, братья Гонкур и поэты-парнасцы (Бодлер). В Англии выразителями этой идеи в живописи явились прерафаэлиты.
В 60-е годы XIX века годы эта концепция оторванности от социальности подвергалась критике и неприятию за её декоративность и орнаментальность. В.Соловьев также не принимал концепцию «чистого искусства», называя его «эстетическим сепаратизмом». В работе «Первый шаг к положительной эстетике» философ пишет: «Если бы сторонники «искусства для искусства» разумели под этим только, что художественное творчество есть особая деятельность человеческого духа, удовлетворяющая особенной потребности и имеющая собственную область, то они, конечно, были бы правы, но тогда им нечего было и поднимать реакцию во имя такой истины, против которой никто не станет серьезно спорить. Но они идут гораздо дальше; они не ограничиваются справедливым утверждением специфической особенности искусства или самостоятельности тех средств, какими оно действует, а отрицают всякую существенную связь его с другими человеческими деятельностями и необходимое подчинение его общим жизненным целям человечества, считая его чем-то в себе замкнутым и безусловно самодовлеющим; вместо законной автономии для художественной области они проповедуют эстетический сепаратизм».
В. Соловьев, вслед за Платоном и Аристотелем полагал, что искусство как «эстетически прекрасное должно вести к реальному улучшению действительности». В воздействии на человека искусство производит «новое состояние» и «новую действительность – ту, которой раньше не было».
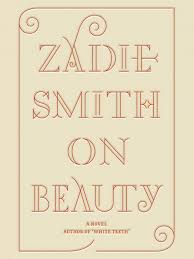 В этой связи в романе «О красоте» показателен образ профессора филологии Клер Малколм, читающей курс по науке поэзии. Молодость её пришла на начало семидесятых. Выросшая среди американских интеллектуалов и европейских аристократов – утонченных, но холодных. «Пять языков, и ни на каком не скажешь «люблю» или, что ещё важнее, «ненавижу». «Я варилась в кругу потрясающих людей, Гинзберга и Фарлинетти, и попадала в дикие ситуации. При встрече с Миком Джаггером я отправилась на три года в Монтану, к фантастическим ландшафтам – такая земля наполняет тебя до краев, воспитывает как художника. В такие дни я могла целыми днями заниматься васильками, всматриваться в их подлинную, изначальную синеву». Клэр населяла свои стихи дикой флорой и фауной Новой Англии, ручьями, длинами, горными кряжами…
В этой связи в романе «О красоте» показателен образ профессора филологии Клер Малколм, читающей курс по науке поэзии. Молодость её пришла на начало семидесятых. Выросшая среди американских интеллектуалов и европейских аристократов – утонченных, но холодных. «Пять языков, и ни на каком не скажешь «люблю» или, что ещё важнее, «ненавижу». «Я варилась в кругу потрясающих людей, Гинзберга и Фарлинетти, и попадала в дикие ситуации. При встрече с Миком Джаггером я отправилась на три года в Монтану, к фантастическим ландшафтам – такая земля наполняет тебя до краев, воспитывает как художника. В такие дни я могла целыми днями заниматься васильками, всматриваться в их подлинную, изначальную синеву». Клэр населяла свои стихи дикой флорой и фауной Новой Англии, ручьями, длинами, горными кряжами…
Поэзия для Клэр – высокое ремесло, идеальный мир красоты. «Какое чудо – взывать к сокровенности в столь отточенной форме, опираясь на размер и рифмы, идеи и образы». Для её мировоззрения на поэзию характерно «чудо совпадения» реальности и идеального мира, каким бы мелким и незначительным ни был первый. Именно в точке схождения этих вещей, как уверяет Клер, и рождается красота. Та красота, которая является тождеством человечности и личности. Поэзия, как смычка чувств и мыслей, оказывается для неё рецептом для красоты взыскующей.
Сама как воплощение красоты, Клер является преображающей силой для окружающего мира – каждый входящий в круг её внимания становится гнездом разъёма, проводником своих талантов, желаний и идей. «Вот почему к ней в класс рвались сотни студентов». Все – и она сама, и каждый другой, принимают общий контекст сотворенной красоты, становятся частью её самой. Клер завораживает хроника жизни другого, не похожая на её собственную.
Она находится внутри круга «чистого искусства» и преодолевает его, обращаясь к Другому. Через Клер З. Смит «проговаривает» стихотворение о красоте, написанное её мужем, поэтом Ником Лэйердом. Этот текст можно рассматривать как посыл к красоте «чистого искусства».(Написан он в форме старинного французского пантума, для которого характерны повторяющиеся строчки и перекрестная рифма; вторая и четвертая строчки здесь становятся первой и третьей).
О Красоте
Нет, я не могу перечислить
То, что нельзя простить.
У всех красивых есть какая-то рана.
Снег выпадает навсегда.
«То, что нельзя простить», –
Слова, великолепная бесполезность.
Снег выпадает навсегда.
Красивые это знают.
Слова – великолепная бесполезность.
Они прокляты.
Красивые это знают.
Они стоят вокруг неестественно, как скульптуры.
Они прокляты,
Потому-то их печаль и прекрасна,
Хрупкая, как яйцо в ладони.
Жестокая, она облагорожена их лицами —
Потому-то их печаль и прекрасна.
У всех красивых есть какая-то рана.
Жестокая, она облагорожена их лицами.
Нет, я не могу перечислить.
Прерафаэлитское, декадентское стихотворение, где, с одной стороны явлен «эстетический сепаратизм» – невесомая оторванность от реальности («снег выпадает навсегда»), бесполезность слов, а с другой стороны – присутствие раны и печали свидетельствует о привязанности к болезноточащей реальности.
В своих размышлениях В. Соловьев не очень много внимания уделяет болевым порогам красоты – тому, что для З. Смит является важным и часто проговариваемым. Здесь, конечно, нужно помнить о том, что между В. Соловьевым и З. Смит существует временной зазор в количестве ста лет, наполненных в большей степени болью по красоте.
Болезноточащая реальность – способна ли она сотворять и удерживать красоту не только в поэзии, но и, например, в живописи? В статье «Что значит живописность» В.Соловьев пишет, что сама по себе болезноточащая реальность не живописна, она ужасна, но это ужасное есть повод к живописности: «Признавая живописность одним из видов красоты, я не допускаю, чтобы безобразное или лишенное красоты могло быть живописным, хотя оно может служить материалом и поводом для живописных и прекрасных художественных изображений, столь же мало похожих на свой исторический материал, как прекрасные цветы и плоды не похожи на ту навозную землю, из которой они произрастают». Живописность рассматривается В.Соловьевым как частный случай красоты: «Живописность есть частное эстетическое понятие, подчиненное общему понятию красоты». Соловьев затрагивает вопрос соотнесения этики и красоты в живописи: будут ли живописны десятитысячная масса утопленников, московские казни или гниющий прокаженный у Флобера? Иван Грозен живописен в изображении Антокольского, Самойлова, как ад живописен у Данте, чума у Боккаччо. Однако живописны они больше в изображении, нежели в действительности.
З. Смит уделяет большое значение вопросу действительного и изображаемого в красоте живописи. Главный герой Говард Белси работает в Университете Веллингтона, где преподает историю искусства. Целый семестр отдан им на откуп творениям Рембрандта. Это хороший повод, чтобы упомянуть в романе ряд подлинных полотен художника: «Портрет корабельного мастера и его жены» (1633); «Автопортрет с латным нашейником» (1629), «Автопортрет» (1629), «Урок анатомии доктора Тульпа» (1632), «Иаков, борющийся с ангелом»(1658), «Сидящая обнаженная натурщица» (1631), «Портрет старейшин цеха суконщиков» (1662), «Портрет Хендрикье на купании» (1662).
В послесловии автор романа признается, что обращение к Рембрандту неслучайно – оно инспирировано американским искусствоведом Саймоном Шамом, ныне живущим в Нью-Йорке, в частности его книгой «Глаза Рембрандта». Кроме Рембрандта, в романе присутствует полотно Эдварда Хоппера «Дорога в штате Мэн» (1914). Вскользь упоминается картина Рубенса «Голова негра в четырех ракурсах».
Если использовать тезис В. Соловьева о живописности как способе преображения ужаса реальности в красоту, то З. Смит не столько деконструирует, сколь достраивает модель этого тезиса, расшатывает его сомнением в красоте и в передаваемом ею смыслах. Ниспровержение ожидаемого выражается через трактовку картины «Портрет старейшин суконного цеха», более известной как «Синдики».
За столом расположились шестеро голландцев среднего возраста, которые рассудительно и благодушно оценивают образцы ткани. Насыщенный винный цвет ковра, которым покрыт стол, словно концентрирует важность задачи. Традиционная версия искусствоведов состоит в том, что перед нами собрание пайщиков, старейшин-суконщиков, которым был задан сложный вопрос, заставивший их задуматься.
Однако З. Смит вкладывает в уста героя Говарда другое видение, далёкое от «чепухи и сентиментальщины», полагающего, что реальность момента, запечатленного на полотне – неправда. В данном случае для нас неважно, что автор изображает героя с долей иронии и даже гротеска, нам важен сам способ проговаривания этого «другого» видения. «Нам хочется думать, что синдики – волхвы, мудрые судии воображающих зрителей, а в действительности – это шестеро богачей, которые хотят, требуют, чтобы их запечатлели в виде обеспеченных и высоконравственных людей. Они ни на кого не смотрят, им не на кого смотреть, Рембрандт им угождает, упражняется в передаче изображения художественными средствами власти и богатства, в результате чего выходит карикатура». С одной стороны, З. Смит вслед за С. Шамом использует такой способ понимания художника, при котором смотрящий на картину словно находится вниз головой, «перевёртывая» устойчиво существующие объяснения. С другой стороны, в такой трактовке З. Смит отображает весьма свойственную для XXI века тенденцию десакрализации существующих понятий красоты. Деконструкция мифа о Красоте находит выражение и в объяснении другой картины – «Иаков, борющийся с ангелом» (1658).

«Сонная, вязкая атмосфера полотна. Землистые цвета: чистый алый Иакова, грязно-белый ангела, одетого, как фермерский сын, похожего на Титуса, красавца-сына художника. Упорная схватка похожа на любовное объятие, гомоэротизм которого напоминает сцены Караваджо, снабжавшего ангелов сумрачно царственными крыльями орла. Обобщенные, потрепанные, серо-бурые крылья этого ангела – не крылья орла. Они кажутся уловкой, напоминающей о том, что речь идет о библейских, потусторонних вещах. Это похоже на борьбу за земное «я», право выбора веры».
З. Смит дает цитату из Библии: «И остался Иаков один. И боролся некто с ним до появления зари. И сказал ему «Отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: И не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Героиня романа не доверяет реальности полотна Рембрандта и соответствии приведенной библейской цитате, эта реальность совсем не похожа на борьбу: у Иакова вид умоляющий, а у ангела – сострадающий. Скорее, это не борьба, а только видимость. Следовательно, перед нами искусство, которое стремится быть похожим, стремится обмануть реальность. Этим работам З. Смит противопоставляет другую – ту, в которой нет ни совершенства форм, ни игры света, ни отсыла к неоспоримым источникам.

Гравюра «Сидящая обнаженная натурщица» считается технически совершенной, но отталкивающей. Многие не приняли эту «тошнотворную» и беспощадную работу Рембрандта. Однако за внешними, человеческими деталями прячется то, на что художник не указывает, а намекает. «Складчатый рисунок икр, перетянутых невидимыми чулками, сильные, привычные к работе руки, расплывающийся, выносивший не одного ребенка, живот, всё ещё свежее лицо, через которое Рембрандт словно говорит всем женщинам: вы персть земли, как и моя обнаженная, а значит однажды и вы пойдете к этому рубежу – тогда даруй вам бог, как и ей – не стыд, но радость. Вот она, отметина реальности бытия». Здесь невольно вспоминаются строки Н. Заболоцкого в стихотворении «Некрасивая девочка»: «Но что есть красота / И почему ее обожествляют люди? / Сосуд она, в котором пустота, / Или огонь, мерцающий в сосуде?». Эта гравюра Рембрандта предстает в романе З. Смит как воплощение красоты, отмеченной опытом и выросшей из самой жизни.
Красота – это сочетание света и материи
Может создаться впечатление, что роман З. Смит исключительно о живописи, но это не так. Отношение к живописи героев книги раскрывает характеры и взаимоотношения, но и это опять же не главное. Важно само понятие красоты, которое, словно световой луч, сквозит через музыку – «Лакримозу» Моцарта, и даже через рэп, который «по касательной» проговаривается на страницах романа, через эрос (этот роман можно назвать сексуальным), через уличные пейзажи маленького университетского городка и мелочи повседневной жизни.
Свет имеет важное значение в понимании красоты В. Соловьевым. Само вещество – это косность и непроницаемость бытия, и только свет освобождает вещество от косности. Свет рассматривается им как вспомогатель красоты, обнаруживатель её. Свет одинаково падает на предметы – кусок угля, стекло и алмаз. Но не каждый предмет оживляется при попадании на него света. Следовательно, не каждый предмет принадлежит к числу прекрасных явлений. Уголь поглощает свет – световая сила не одолевает «темных сил природы», стекло превращается в безразличную среду для солнечных лучей, и только алмаз – носитель эстетического значения, так как ни темное вещество, ни световое начало не пользуется односторонним преобладанием, а в идеальном равновесии взаимно проникают друг в друга. Красота алмаза зависит от просветления в нем вещества, которое задерживает в нём световые лучи. Соловьев определяет красоту как преображение материи через воплощение в ней другого, сверхматериального (идеального – вслед за Шопенгауэром) начала, которое овладевает вещественным фактом, воплощается в нем, и в результате чего материальная стихия, напитанная идеальным содержанием, преображается.
В романе «О красоте» З. Смит также ставит вопрос о взаимоотношении красоты и света. Может ли свет являться для нас нейтральным понятием? В работе «Обнаженная натурщица» свет падает на тело женщины и не обнаруживает в нем красоты. В чем логос этого света? В чем смысл этого озарения? Не в том ли, что с помощью света эта странная красота, скользнув по субъективному восприятию, приняв на себя его логос, замыкается на самой себе, становится «чистым искусством». З. Смит показывает и другой ракурс обнаружения красоты через свет. Имеется в виду как бы случайно выхваченная, динамическая красота: свет, падающий на заполненную народом улицу, зафиксированную в движении – бегущие в заботах пешеходы, карибские парни, торговцы сумками на обочинах, воздух, подхваченный жизнью – всё на мгновение застывает в особой красоте оживотворенного мгновения.
Красота в искусстве не самоотдалена от реальности, но и не питается исключительно реальностью – в этом случает она бы теряла художественную силу. Дальнейший путь развития искусства становится возможным только в соединении с преобразующей силой присутствия Бога, религиозного наполнения. Только в таком соединении осуществляется теургическая миссия. Не синкретизм, но синтез. Мистическое общение с высшим миром, проходящее путем внутренней творческой деятельности. В романе «О красоте» это подкрепляется аллюзиями на творческое переосмысление бытия («Что явлено: Библия для человека или Человек для Библии?»); герои романа время от времени сходятся в слушании песни «Аллилуйя» Леонарда Коэна, которая звучит как лейтмотив красоты. Продление красоты возможно с помощью «умного делания» и интеллектуальной работы («жизнь без исследования скучна и не имеет смысла»).
В.Соловьёв в идее богочеловечества предполагал, что человек добровольно принимает Бога без давления институтов. З. Смит высказывает мысль, что путь через образование выводит человека к жизни вечной. Так образом красоты в романе является Университет. З. Смит выносит эпиграфом цитату из упомянутой выше Э. Скайри: «Одна из возможных ошибок – ложная оценка или недооценка отношения университетов к красоте. Университет сам принадлежит к числу драгоценных и хрупких камней», потому что продлевает «жизнь вечную», которую являет собой образование. Образование – это изменение своего местоположения для того, чтобы быть по дороге с красотой».
Идея красоты проявляется в каждом художественном произведении, в каждой философии по-своему. Именно поэтому оправдан сравнительный анализ этой идеи в исторически разных культурных ситуациях. Поскольку главным в идее красоты является вопрос, как красота способна изменить способ человеческого бытия (разного эстетического отношения к миру), то присутствие красоты в мыслях В. Соловьева и З. Смит показывает, что человек в разные эпохи задает один и тот же вопрос о том, сохраняется ли человеческое представление о красоте от эпохи к эпохе, или оно изменяется. В. Соловьев придавал красоте онтологическое значение как способное преобразить человека и мир, несмотря на то, что иногда его представления о красоте были субъективны. Тот же вопрос ставится З. Смит в совершенно другую временную эпоху и в другой стране, что указывает на то, что интуиция философов прошлого о способности красоты определять бытие человека оказывается субъективно-значимой, то есть определяющей суть человека и вносящей вклад в его видение истины.
© Ж. Д. Сизова, 2019 (публикуется впервые)
© «Русская культура», 2020








