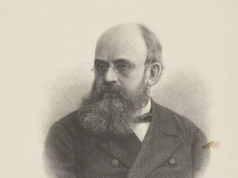Как известно, авторство термина «панмонголизм» приписывают В. С. Соловьеву, использовавшему его в одноименном стихотворении 1894 г. и своем последнем сочинении «Три разговора» (1900). Этим произведениям предшествовала публицистика Соловьева начала 1890-х гг., в которой он обращался к историческим и цивилизационным судьбам Востока. В историко-философской литературе уже предпринимался анализ ориентальных взглядов Соловьева и давалась им оценка[1]. Пожалуй, большее влияние мифология панмонголизма оказала на русскую поэзию и литературу начала ХХ в., чем на философию[2].
Интерес Соловьева к цивилизации Дальнего Востока вполне объясним, исходя из его философии всемирной истории. Историософское постижение азиатского мира, его исторических судеб и эсхатологического предназначения органично вписываются в философию истории русского мыслителя. В дальневосточной цивилизации Соловьев усматривает два полюса, представленные Китаем и Японией. Китай занимает доминирующее положение в этой цивилизации и выступает в роли культурного донора, в то время как Япония является реципиентом. Япония – лишь разновидность дальневосточной цивилизации, пусть уже и не ее периферия, но и не основной инициатор. Противопоставление Японии и Китая связано с тем, что они олицетворяют две стороны единой цивилизации: Китай – силу национальности, а Япония – универсальное, объединяющее начало. Историософская конфигурация дальневосточной цивилизации задается взаимодействием и противоборством двух сил: национальности и универсализма, выраженного, прежде всего, в религии. Надо заметить, что аналогичный схематизм присутствует у Соловьева и при описании русской истории. Такое совпадение говорит о том, что здесь мы имеем дело либо с общим принципом цивилизационного развития и его движущих сил, либо с иносказанием. Во втором случае это означает, что исторический и культурный параллелизм нужен Соловьеву для того, чтобы в более яркой, а порой и гипертрофированной форме продемонстрировать верность своих выводов о России. Соловьев не был специалистом по истории и культуре Востока. Его общение с востоковедами, например, с И. О. Лапшиным и др., едва ли позволило приобрести достаточные профессиональные познания по истории Востока, его языкам, религиям и культурам, а его близкое знакомство с супругой русского посланника в Токио и переводчика японской поэзии М. А. Хитрово (1837–1896) вряд ли придавало ему большую компетентность. Соловьев оставался эрудитом, а многообразные фактические знания (взятые не из источников, а из исследовательской литературы, например, книги С. М. Георгиевского «Принципы жизни Китая» (1888)), благодаря безусловному дару системотворчества, встраивались в заранее принятую историософскую схему. Рассуждения Соловьева о дальневосточной цивилизации не были самодостаточными, а подчинялись главной цели – критике славянофильства. «Восточная тема» в творчестве Соловьева – это часть его полемики против славянофилов. Помимо критического, она имела еще одно значение для Соловьева. Она была частью его эсхатологии.
Историософское сознание Соловьева дихотомично. Следуя диалектической привычке, он мыслит противоположностями, благодаря которым параллелизм его анализа восточной и русской истории становится еще более заметен. Противопоставляя принципу национальности универсализм, олицетворяемый на Востоке Японией, Соловьев имеет в виду мировую религию, на роль которой подходит только христианство, а не собственно восточные верования, в том числе антиисторический буддизм. «Конечно, – замечает В. Э. Молодяков, – буддизм, против которого выступает Соловьев, был им изрядно мифологизирован, хотя он имел о нем волне “реалистическое” для своего времени представление»[3]. Историческое пробуждение Японии он связывает именно с влиянием христианства или христианской (западной) культуры. Здесь Соловьев во многом воспроизводит историософское противопоставление «благодати» и «закона», предложенное митрополитом Иларионом: вселенский характер христианства против узости национальной религии евреев.
Схожий схематизм заметен и в поэтической историософии Соловьева. Стихотворение «Панмонголизм» обращено к России. Его содержание строится на противопоставлениях и параллелях. С одной стороны, это Византия и «от Востока / народ безвестный и чужой», с другой, – Россия и «тьмы полков» «вождей с восточных островов». Исторический параллелизм представлен вторым и третьим Римом, т. е., соответственно, Византией и Москвой. В стихотворении видна зависимость Соловьева от чаадаевских формул и характеристик. Так, выражение «растленная Византия» встречается в «Философических письмах», а неспособность научиться «судьбою павшей Византии» воскрешает чаадаевскую тему исторического урока, который Россия должна преподать миру. Эсхатологический смысл стихотворения раскрывается в двух последних строках: «Уж третий Рим лежит во прахе / А уж четвертому не быть». Согласно учению старца Филофея Москва является не только третьим, но и последним Римом, т. е. падение Москвы будет означать наступление «последних времен». Правда, для средневекового книжника синонимом и причиной падения Москвы будет оскудение православия на Руси, так же, как и гибель Восточной римской империи была следствием религиозного отступничества (Флорентийской унии). Соловьев воспроизводит эту интерпретацию исторического процесса в начале стихотворения: «Когда в растленной Византии / Остыл Божественный алтарь / И отреклися от Мессии / Иерей и князь, народ и царь». Обличительный смысл стихотворения адресован не псковскому старцу XVI в., а современным сторонникам третьего Рима, под которыми Соловьев подразумевает славянофилов. Надо заметить, что славянофилы неоднократно упрекали именно Соловьева в стремлении водворить Рим в России. С этой стороны его, в частности, десятилетием ранее в статье «Церковь и византийство» критиковал О. Ф. Миллер. Отношение славянофилов к Византии и византизму не было однозначным: от резко критического отношения О. Ф. Миллера до «русского византизма» К. Н. Леонтьева. Для большинства славянофилов Византия представляла уже чисто антикварный интерес, переходящий в научное византиноведение. Все содержание стихотворения показывает, что вводя термин «панмонголизм», Соловьев вовсе не был озабочен исторической судьбой народов Дальнего Востока; они выступали для него только «орудьем тяжким рока», «орудьем Божьей кары», т. е. не обладали самостоятельной культурно-исторической ценностью. Для русского философа они остаются лишь «бичами Божьими», а не «положительными деятелями в истории человечества», если следовать классификации Н. Я. Данилевского, против которого во многом и направлен «панмонголизм» Соловьева. Однако тот же Н. Я. Данилевский с гораздо большим уважение и пониманием относился к восточным культурам. Китай, так же, как и Индия, для него – это самобытные, хотя и уединенные культурно-исторические типы, а не царство плоского застоя.
В поэтической историософии Соловьева тема Востока также разрабатывается в таких стихах, как «Ex oriente lux» и «Дракон». В первом из них он ставит Россию перед выбором христианского востока веры и любви, объединившегося с «всечеловеческими началами» западной государственности, востоку рабства. В стихотворении «Дракон» уже определенно говорит об угрозе «бед неотразимых», которые несет символ дальневосточной цивилизации. Соловьев призывает к вооруженной борьбе с «желтой опасностью», которая есть в то же время и борьба религиозная, прообраз которой он видит в крестовых походах.
В интерпретации Востока Соловьев следует основным принципам своей историософии, т. е. религиозному пониманию исторического процесса. Историческое развитие есть результат религиозной жизни, но не всякая религия обладает таким историческим потенциалом. Соловьев постоянно возвращается к той историософской мысли, восходящей к П. Я. Чаадаеву, что только христианские народы являются историческими. Примером подобного влияния христианства может служить Япония. В компилятивном очерке «Япония (Историческая характеристика)», опубликованном в 1890 г. в седьмом номере «Русского обозрения» и написанном на заказ, ради литературного заработка[4], Соловьев пытался показать, как религиозное развитие японского народа, потребности его национального характера привели к усвоению истин христианской веры. Япония в этом отношении не представляет исключения. Становление ее культуры во многом определялось воздействием буддизма (с VI в.). «Подвижный, поступательный характер японской истории был уже заранее заложен в древнем религиозном миросозерцании японцев»[5]. Религиозная подкладка зримо проявляется в исторической жизни. Теология в форме теогонии переходит в историю японского народа. «Япония, – обобщает Соловьев, – нуждалась в такой религии, которая, поднимая народный дух над темным потоком материальной жизни, не оставляла бы его висящим в абстрактной пустоте, а ставила бы на твердый путь исторического процесса, указывала бы ему определяющую мировую цель и снабжала действительным руководством для ее достижения. Япония нуждалась в христианстве»[6]. Только христианство было способно вывести японский народ на уровень исторического существования, поскольку принятый верховной властью буддизм со временем проявил свою анти-историческую и анти-политическую сущность[7]. Соловьев оценивал буддизм как «отрицательное откровение», не предлагающее положительных взглядов на мир и нигилистически сводящее Абсолют к нирване. Отсутствие позитивного мировосприятия и положительного содержания Абсолюта приводит к рецепции мира исключительно как материального бытия. Христианство предлагает альтернативу такому взгляду, обращает человека к духовным потребностям и указывает на духовную основу жизни.
Христианство хотя буквально и не обозначает конец истории, но способно указывать (предсказывать) признаки ее завершения. Христианский взгляд на историю – это всегда стремление к максимально полному охвату минувших событий, к панорамному взгляду на прошлое. Поэтому наиболее адекватным христианству построением истории будет история всемирная. Всемирно-историческая точка зрения заложена уже в идее вселенской церкви, охватывающей в полноте времен и возможную полноту человеческих существ. «Церковь, – развивает свою мысль Соловьев, – как вселенская или всемирная, т. е. как соединение всего с Богом, может быть и осуществлена действительно только через всемирную историю – в целой жизни всего человечества, во всей совокупности времен и народов»[8].
Подразумевая под человечеством особый социальный организм, общественное тело, т. е. определенное единство, а не разрозненное множество, Соловьев предполагает, что на такое единство воздействует божественная сила, такой организм впитывает религиозные истины. «К счастью, – пишет он, – человечество не есть куча психической пыли, а живое одушевленное тело, образующееся и преобразуемое, последовательно и закономерно развивающееся, многоразлично расчленяемое и объединяемое, разнообразно связанное с прочим миром и всесторонне воспринимающее дух Божий – не только периферически, но и центрально, не только в единицах, но и в группах, не только частями своими, но и целым»[9]. Социальное тело состоит из моральных или личных существ, обладающих внутренней безусловной ценностью. Из этого вырисовывается задача всемирной истории, которая согласно русскому философу, состоит в осознании, т. е. свободном принятии и утверждении личностью всемирной солидарности в качестве собственной цели, в желании и восприятии ее как истинного блага. В нравственном альтруизме и всемирной солидарности как раз и находит выражение понимание человечества как социального организма. Через альтруизм и солидарность осуществляется единство человечества. В действительности или в историческом человечестве можно видеть различные этапы и формы реализации такого единства. К ним относятся семейный союз, гражданские общины, великие монархии, римская империя, космополитические идеи и проекты, разрабатываемые античными философами и, конечно, социальные представления христианства. М. М. Ковалевский, рассуждая схожим образом, писал о расширении «замиренной среды» как индикаторе социального прогресса. Однако до христианства развитие всемирной солидарности шло либо внешним и частным путем (в государстве), либо отвлеченно (в философских концепциях). Поэтому Соловьев говорит, что в древнем мире человечество двигалось вперед «ощупью, его развитие было слепым естественным процессом»[10]. Иное дело христианство. «Христианство прямо поставило перед человечеством его абсолютный идеал, дало ему окончательную задачу для его собственной работы»[11]. Христианство, явившись в мир, привнеся новое начало единства, вступило в борьбу с языческим государством и языческой мудростью. Не то чтобы христианство отрицало достижения древнего мира или, как пишет Соловьев, «добытки истории», но оно указало на их ограниченный характер и предложило новые основания универсальности, новый фундамент для объединения человечества. Однако эта борьба продолжается и доныне. На фактическом уровне «открытая борьба», по выражению Соловьева, окончилась в IV в. победой христианства, но, по мысли философа, она представляет «мало интереса с точки зрения философии истории»[12]. На смысловом уровне эта борьба не завершена, смысловые последствия утверждения христианства не исчерпаны, а, значит, история продолжается. Идея христианского государства, выводимая из евангелической идеи царствия Божия, впервые провозглашенная Константином Великим, до сих пор не осуществлена.
Реальное воплощение царства Божия происходит в трех видах или, как полагает Соловьев, в «трех нераздельных модификациях»: Церкви, государстве, христианском обществе. Вот, что пишет сам Соловьев: «Итак, соответственно трем служениям и властям Христа и мир христианский (или вселенская церковь в широком смысле слова) развивается как троякое богочеловеческое соединение: есть соединение священное, где преобладает божественный элемент в традиционной неизменной форме, образуя церковь в тесном смысле – храм Божий; есть соединение царское, где господствует (относительно) человеческий элемент, образуя христианское государство (посредством которого церковь должна реализоваться в живом теле человечества), и есть, наконец, единство пророческое, еще не достигнутое, где божественный и человеческий элемент должны вполне проникнуть друг в друга, в свободном и обоюдном сочетании образуя совершенное христианское общество (церковь, как невеста Божия)»[13]. Аналогия религиозного учения, перенесенная на историческую схему, превращает последнюю в утопический проект. Основным принципом такого утопического мироустройства и, соответственно, целью истории выступает понятие «истинной солидарности». «Она предполагает, – уточняет Соловьев, – что всякий элемент великого целого – собирательный или индивидуальный – не только имеет право на существование, но обладает собственною внутреннею ценностью, не позволяющею делать из него простое средство или орудие общего благополучия»[14].
Иллюстрацией неизбежности и благотворности включения во всемирно-исторический процесс может служить история Японии. В очерке «Япония (Историческая характеристика)» Соловьев полемизирует с мнением Г. Рюккерта о «независимом туземном развитии частных культур»[15]. Судьба японского народа, как считает русский философ, дает материал для лучшего понимания всемирной истории. Историческое развитие Японии проходило под воздействием других цивилизаций: китайской и, начиная с XVI в., европейской. Попытка замкнуться и опираться в своем развитии на собственные силы привела к исторической изоляции Японии. Так, борьба с «европейничаньем» или, что для Соловьева одно и то же, с «общечеловеческой культурой», имела следующий результат: «Двухвековое возвращение к исключительной самобытности привело Японию к застою и безнадежному безсилию»[16]. И лишь повторное влияние европейской (христианской) культуры оживило Японию и вовлекло ее в водоворот всемирно-исторических процессов, вернуло японцам истинные начала их жизни, потому что «японцы, – по наблюдению Соловьева, – народ исторический, народ процесса и прогресса»[17].
Пример Японии вводит еще одну тему, вписывающуюся в концепцию всемирной истории Соловьева, – тему исторического значения западноевропейских народов для Востока. Постановка вопроса об исторической роли Запада на Востоке на деле лишь метонимически повторяет вопрос о всемирном призвании христианства. С этой точки зрения не может быть иной исторической жизни, кроме всемирно-исторической. Как пишет Соловьев, «исторический народ, если хочет жить полною национальною жизнью, не может оставаться только народом, только одной из наций, – ему неизбежно перерасти самого себя, почувствовать себя больше, чем народом, уйти в интересы сверхнациональные, в жизнь всемирно-историческую»[18].
Иной подход, т. е. национализм, изоляционизм, консерватизм, противостоящие универсалистским стремлениям христианства, вызывает у Соловьева приступы историософского критицизма. Его главная мишень здесь – «теория культурно исторических типов» Н. Я. Данилевского. Даже в работах непосредственно не посвященных Н. Я. Данилевскому чувствуется направленность его критики. Таковы очерки, посвященные Китаю и Японии. В экспозиции статьи «Китай и Европа» Соловьев описывает заседание Парижского географического общества, на котором выступал «китайский военный агент в Париже» генерал Чен-ко-тонг. Соловьев так передает впечатление от «остроумного пустословия» китайского генерала: «Передо мною был представитель чужого, враждебного и все более и более надвигающегося на нас мира»[19]. Соловьев концентрирует смысл его речи в нескольких предложениях: «Мы готовы и способны взять от вас все, что нам нужно, всю технику вашей умственной и материальной культуры, но ни одного вашего верования, ни одной вашей идеи и даже ни одного вашего вкуса мы не усвоим. Мы любим только себя и уважаем только силу. В своей силе мы не сомневаемся: она прочнее вашей. Вы истощаетесь в непрерывных опытах, а мы воспользуемся плодами этих опытов для своего усиления. Мы радуемся вашему прогрессу, но принимать в нем активное участие у нас нет ни надобности, ни охоты: вы сами подготовляете средства, которые мы употребим для того, чтобы покорить вас»[20]. Речь китайского генерала, несомненно, выражает консервативную, изоляционистскую позицию. В «Краткой повести об антихристе» эти взгляды приписываются уже японцам, обращающим свою речь к китайскому народу: «Поймите, упрямые братья, – твердили японцы, – что мы берем у западных собак их оружие не из пристрастия к ним, а для того, чтобы бить их этим же оружие. Если вы соединитесь с нами и примите наше практическое руководство, то мы скоро не только изгоним белых дьяволов из нашей Азии, но завоюем и их собственные страны и оснуем настоящее Срединное царство надо всею вселенною. Вы правы в своей народной гордости и в своем презрении к европейцам, но вы напрасно питаете эти чувства одними мечтаниями, а не разумною деятельностью. В ней мы вас опередили и должны вам показать пути общей пользы. А не то смотрите сами, что вам дала ваша политика самоуверенности и недоверия к нам – вашим естественным друзьям и защитникам: Россия и Англия, Германия и Франция чуть не поделили вас между собою без остатка, и все ваши тигровые затеи показали только бессильный кончик змеиного хвоста»[21].
И хотя Соловьев, казалось бы, прямо говорит о «желтой угрозе», устами китайского генерала он передает точку зрения поздних славянофилов, в частности, Н. Я. Данилевского. В ту пору пассивный Восток еще не воспринимался им в качестве реальной исторической силы, несущей угрозу европейскому человечеству. Так, в написанной в те же годы статье «Враг с Востока» (1891), несмотря на столь грозное заглавие, Соловьев всего лишь указывал на климатические изменения, вызывающие наступление пустыни на плодородные почвы русских равнин. Еще в начале статьи Соловьев многообещающе провозглашал, что Азия «собирается одолеть нас своими культурными и духовными силами, сосредоточенными в китайском государстве и буддийской религии»[22]. Однако все дело в том, что видя на Востоке мощную культурную силу, хотя и чисто материальную, он отказывал ему в действенной силе духовной, способной противостоять христианству. Восток способен одолеть Европу только если Европа сама обессилит себя секуляризмом. До тех пор провиденным врагом остается «Восток пустыни».
Надо заметить, что идею исторического противостояния Европы с Азией Соловьев, вероятно, воспринял, прежде всего, из исторической концепции своего отца. «Азиатцы», полагал С. М. Соловьев, тормозили историческое развитие Восточной Европы. Согласно его оценке, нашествие и господство арабов в Испании несравнимо по результатам с господством на Руси «татарина со товарищи – башкира, чувашина, черемисина и т. п.!»[23]. В русской истории мы видим постепенное «очищение европейской почвы от господства азиатцев»[24] до тех пор, пока русские не «подчинили Азию Европе». Эта борьба была завершена покорением Крыма при императрице Екатерине II. В противоборстве с Азией С. М. Соловьев усматривал созвучие русской истории с европейской. Перед русским и западноевропейскими народами стоит задача цивилизовать народы Востока. «Всем племенам Европы, – констатировал историк, – завещано историею высылать поселения в другие части света, распространять в них христианство и гражданственность; западным европейским племенам суждено завершать это дело морским, восточному племени, славянскому, – сухим путем»[25]. Победа Европы над Азией означает дальнейшее распространение начал западноевропейской цивилизации на весь мир. В этом же смысле высказывался один из персонажей «Трех разговоров» Владимира Соловьева: «…нам можно уже теперь играть первостепенную культурную роль в Средней Азии и особенно на Дальнем Востоке, куда, по-видимому, всемирная история переносит свой центр тяжести»[26]. Залог успеха этого дела можно видеть, как указывает тот же персонаж, например, в том что задача внешней борьбы с Турцией (т. е. борьба с «азиатизмом» на Ближнем Востоке) сменилась постепенным оевропеиванием Турции.
У своего отца Владимир Соловьев, скорее всего, позаимствовал и аналогию между славянофильством и буддизмом. В статье «Шлецер и антиисторическое направление» (1857) (не оставшейся без ответа со стороны славянофилов), С. М. Соловьев окрестил славянофилов «политическими буддистами», считая их взгляды «антиисторическими», поскольку славянофилы, полагал он, не понимая процесс исторического развития, идеализировали ушедшие эпох. «Наконец, – обвинял он славянофилов, – во всех этих антиисторических толках повторяется старинное явление: протест против прогресса вследствие нравственной слабости, неуменья сладить с ним; отсюда – пристрастие к первоначально простым, неразвитым формам быта, политический буддизм»[27]. «Грустные воззрения» славянофилов принадлежат к давней традиции, у истоков которой стояли учения индуизма, буддизма и Платона. По словам историка, «одно из основных положений наших новых буддистов таково: человечество было только тогда юно, свежо, когда жило в лесу, при вольных формах быта, при господстве общего владения. Вышедши из этого состояния, оно одряхлело, не в состоянии более восстановлять своих сил; шаг из лесу в поле и шаг из поля в город – не суть шаги вперед, но шаги назад, шаги к дряхлости, порче. Это положение основано на вере в одни материальные условия, на отрицании духовных сил человека и общества»[28]. Главный порок славянофилов С. М. Соловьев, безусловно, сильно утрируя их учение, усматривал в элиминации духовного начала и приоритете материальных интересов. Таким же образом трактовал восточную культуру и Владимир Соловьев. Обвиняя Восток в бездуховности и материализме, Соловьев метил в славянофилов. Лишь в эсхатологической перспективе «Трех разговоров» (1890) он, казалось бы, серьезно отнесся к «желтой угрозе». Пишу «казалось бы», потому что и здесь рассуждения Соловьева не лишены иронического оттенка. Он сам признавал несколько шутливый тон диалогов своего последнего произведения, в котором идея панмонголизма выглядит как пародия на панэллинизм, пангерманизм, панисламизм и, конечно же, панславизм. В панмонголизме доведено до предела разрушительное начало национальной исключительности. «Пан» для Соловьева является антитезой «все». В «Краткой повести об антихристе» панмонголизм побежден всеевропейским заговором. Негативизм любого «пан» делает его предтечей царства антихриста.
То, что «Три разговора» направлены не только против учения Л. Н. Толстого[29], но и против «последних могикан славянофильства» свидетельствуют речи одного из персонажей произведения – Политика, за взглядами которого сам Соловьев признавал «относительную правду»[30]. Выражая «культурно-прогрессивную» точку зрения, Политик провозглашал, что «никакого самобытного греко-славянского культурно-исторического типа вовсе не существует, а была, есть и будет Россия как великая окраина Европы в сторону Азии»[31]. Он, правда, соглашался, что «у нас изначала, а особенно со времен Батыя, азиатский элемент в природу вошел, второю душою сделался»[32]. Однако тут же оговаривал: «На самом же деле мы бесповоротные европейцы, только с азиатским осадком на дне души»[33]. Упоминание «греко-славянского культурно-исторического типа» может означать, что предметом критики Соловьева была не только концепция Н. Я. Данилевского, к тому времени уже ушедшего из жизни, но и учение о трех цивилизационных мирах (европейском, азиатском и греко-славянском) В. И. Ламанского[34]. Книга В. И. Ламанского «Три мира Азийско-Европейского материка» печаталась в «Славянском обозрении» в 1892 г. (№ 1–4) и в том же году вышла отдельным изданием. Не называя прямо В. И. Ламанского, Соловьев не мог пройти мимо его учения о Среднем или Греко-Славянском мире, которое В. И. Ламанский разрабатывал со второй половины 60-х гг. XIX в. Можно напомнить, что В. И. Ламанский первоначально был назначен историко-филологическим факультетом Санкт-Петербургского университета оппонентом магистерской диссертации Соловьева. Полемические выступления Соловьева против Н. Я. Данилевского и отклики на них славянофилов печатались на страницах «Известий Санкт-Петербургского славянского благотворительного общества», одним из организаторов, руководителей и активных деятелей которого был В. И. Ламанский. Реванш «Срединного царства» накануне «последних времен», о котором писал Соловьев в «Краткой повести об антихристе», отсылает не только к самоназванию китайского государства, но и к концепции «Среднего мира» В. И. Ламанского. Семантика идеи панмонголизма, по крайней мере, до эсхатологических предвидений «Трех разговоров», заключала в себе не только негативный, но и уничижительно-утрирующий по отношению к славянофилам смысл. Собственно говоря, и название «славянофильство» было первоначально дано «московскому направлению» их противниками западниками в качестве обидной клички, отсылающей к полемике между шишковистами и карамзинистами в начале XIX в. Номинация славянофилов как «политических буддистов», данная С. М. Соловьевым, из этого же ряда. Владимир Соловьев продолжает ту же линию, стремясь девальвировать культурно-историческую ценность панславизма, ставит его, в свою очередь, в один ряд с панмонголизмом. Не случайно, в «Трех разговорах» «греко-славянская самобытность» означает для него то же самое, что и «китаизм, буддизм, тибетизм и всякая индо-монгольская азиатчина».
Национальные чувства разобщают, изолируют народы. «Ибо, – как разъяснял Соловьев в статье “О народности и народных делах России” (1884), – для каждого народа общий принцип национальности воплощается лишь в его собственной народности, требующей исключительного служения. В этом служении своей народности различные народы если и не сталкиваются прямо враждебно, то все-таки не могут быть солидарны между собою. Ставя, в силу национального принципа, служение своей народности как высшую цель, каждый народ тем самым обрекает себя на нравственное одиночество, ибо эта цель не может быть у него общею с другими народами»[35].
Национальный эгоизм, по мысли Соловьева, следует подчинить задаче всеобщего единства, отождествляемого им с вселенским христианством. «По истине же народность не есть высшая идея, которой мы должны служить, а есть живая сила природная и историческая, которая сама должна служить высшей идее и этим служением осмысливать и оправдывать свое существование. С этой точки зрения вполне возможно соединять вселенское христианство с патриотизмом. Ибо если единая вселенская истина заключается для нас в религии, то ничто не мешает нам признавать в своей народности особую историческую силу, которая должна сослужить религиозной истине свою особую службу для общего блага всех народов»[36]. Однако верить в народ не означает верить в «толпу людей», но в то высшее, что является предметом веры и служения самого народа. «Достойным предметом нашей веры и служения, – уточняет Соловьев, – может быть только то, что причастно бесконечному совершенству»[37]. Этим предметом является Божество, служа которому, таким образом, мы будем служить своему народу, «или, говоря точнее, – поясняет Соловьев, – будем деятельно участвовать в его всемирно-историческом служении»[38]. Историческое значение народности определяется тем, насколько народ, следуя религиозной идее, преодолевает своей национальный эгоизм. Через народность религиозная идея становится исторической силой, осуществляющейся в мире. Благодаря этому народ поднимается на уровень исторической жизни, т. е. не замыкается в себе, а воспринимает внешние воздействия и тем самым становится творческой силой. Поэтому Соловьев пишет: «…развитие народности может быть плодотворно только по мере усвоения его вселенской сверхнациональной идеи. А для этого усвоения необходим некоторый акт национального самоотречения, необходима готовность принимать просвещающие и оживляющие воздействия…»[39].
Противопоставление народа целому человечеству, обособление вызывает национализм, который есть сила отрицательная. Отказываясь от национализма, народ не теряет своего своеобразия, а реализует свою жизненную задачу, исполняет историческую обязанность, соединяющую его с другими народами «в общем вселенском деле»[40].
Национализм опасен своей агрессивностью. Правда, Соловьев не разъясняет почему стремление к национальной изоляции, самобытничество приводят к конфликту. Размышляя о неизбежности столкновения европейской и китайской цивилизаций, он переходит в область, так сказать, практической историософии. Реальная победа западной культуры может быть достигнута только на основе не просто исторического и современного знания, а на основе, как пишет Соловьев, «внутреннего преодоления», т. е. историософского осмысления китайской цивилизации. Вот ход его мысли: «С христианской точки зрения нам непозволительно видеть в каком бы то ни было народе, следовательно, и в китайцах, врагов, против которых нужно употреблять лишь средства насилия. Наши антипатии и опасения может возбуждать не сам китайский народ с его своеобразным характером, а только то, что разобщает этот народ с прочим человечеством, что делает его жизненный строй исключительным и в этой исключительности ложным. Внешняя победа европейской культуры над Китаем может быть прочною и желательною лишь под условием внутреннего преодоления китайщины, т. е. того исторического начала, на котором основан ограниченный и исключительный строй китайской жизни. А для такого внутреннего преодоления прежде всего необходимо знать Китай не в одних только подробностях его исторического прошлого и его современного быта, а в той вековой нравственно-социальной основе, которая составляет и его силу и его ограниченность»[41]. Историософия Соловьева, опираясь на христианский универсализм, однако, считает необходимой и неизбежной победу европейской культуры над «китайщиной», видит причину возможной конфронтации в ограниченности и исключительности Китая только, не замечая, что эта ограниченность взаимна. На самом деле виновником возможного конфликта Китай является не больше, чем Европа. Скорее даже наоборот, именно Европа вывела Китай их состояния национального самодовольства и последующие действия Китая – вынужденный ответ на исторический вызов Запада. И все же, убежден Соловьев, весь ход истории должен приводить к уменьшению борьбы, к изживанию конфронтации. Однако мир может быть достигнут только на почве христианства, т. е. европейской культуры. Прекращение борьбы возможно не в результате взаимного признания, уважения и согласия, а в результате победы христианского Запада. «Возводить свой интерес, – рассуждает Соловьев, – свое сомнение в высший принцип для народа, как и для лица, значит, узаконять и увековечивать ту рознь и ту борьбу, которые раздирают человечество. Общий факт борьбы за существование, проходящий через всю природу, имеет место и в натуральном человечестве. Но весь исторический рост, все успехи человечества состоят в последовательном ограничении этого факта, в постепенном возведении человечества к высшему образцу правды и любви. Откровение этого образца, этого нового человека, явилось в живой действительности Христа»[42].
Анализируя принципы изоляционизма и консерватизма на примере Китая, Соловьев следующим образом формулирует свою исследовательскую позицию: «Задача моя состоит не в описании того, как жили и живут китайцы, а в объяснении того, чем и во что они живут, т. е. одним словом в объяснении китайского идеала»[43]. Источник быта, государственной власти, религии и нравственности китайцев Соловьев видит в «абсолютизме отеческой власти»[44]. Поэтому основой жизненного строя китайцев является «безусловная патриархия». Порядок держится благочестивым отношением не только к живым отцам, но и к умершим. Китаец «зависит от своего родового прошлого»[45]. Разбирая взгляды Лао-цзы, Соловьев выводит следующий принцип китайского миросозерцания: «Абсолютная пустота или безразличие, как умозрительный принцип, и отрицание жизни, знания и прогресса, как необходимый практический вывод – вот сущность китаизма, возведенного в исключительную и последовательную систему. Отдавая все права одному прошедшему, он заключает в себе принципиальное отрицание настоящего и будущего в человечестве»[46].
Однако в китайском миросозерцании Соловьев видит и положительные черты: «Оценивая по существу этот китайский идеал, мы находим его истинным в его исходной точке, именно в признании прав прошедшего (или говоря конкретно – предков) над настоящим (над нами), – в признании нашей обязанности служить предкам, утверждать и укреплять в себе привязанность к ним»[47]. Развитие положительных моментов в китайском миросозерцании приводит Соловьева к рассуждениям о роли европейской культуры на Востоке. «Если привязанность к прошедшему, служение предкам, – пишет он, – составляет истину китайского миросозерцания, то своего исполнения эта истина достигает только в христианской, европейской идее всемирного прогресса, как пути для достижения истинной жизни <…> Мы, европейцы, должны предложить Китаю не отрицание, а исполнение его жизненного начала. Неустанный прогресс, как средство действительного служения предкам, непрерывное стремление к идеальному будущему, как настоящий путь для воскресения минувшего – вот истинное, внутреннее примирение двух крайних культур»[48]. Рассуждения Соловьева звучат как реминисценция панморализма и «общего дела» Н. Ф. Федорова.
Противостояние европейской и китайской культур оценивается как противостояние прогресса и косного порядка, как ориентация на прошлое и на будущее. «Истинный прогресс, – уточняет он, – не может иметь исключительно критического разрушительного характера, не может быть только противоположность порядка; истинный прогресс есть прогресс порядка»[49]. Истинный прогресс, согласно Соловьеву, должен опираться на «солидарность с предками»[50] во имя будущего (потомков). Развивая свою мысль, он говорит об «истинном христианском прогрессе», включающем в себя «положительные принципы порядка, идею такого жизненного строя, который обладает и глубокими реальными корнями в исторической почве, и идеальною вершиной, достигающей неба»[51]. Ориентацию только на прошлое, характернуе для европейской реакционной мысли или «ложный консерватизм», Соловьев называет китаизацией. «Сознательная или бессознательная китаизация Европы не может быть успешна, но она может быть пагубна», – заключает он[52]. Китаизация отвергает идеал вселенского христианства, а также идею справедливости и универсальной любви. Все это, полагает русский философ, отнимает силы у Европы в ее предстоящем столкновении с Востоком. Отрицание христианства для Европы – это отречение от «причины нашего исторического существования»[53]. «Ведь в христианстве, – продолжает мыслитель, – не только идеал нашего будущего, но и духовные корни нашего прошедшего, – в нем вера наших предков»[54]. Сила Европы – в универсальности христианской истины, завоевывающей души людей «к какому бы племени они не принадлежали»[55]. Поэтому верность христианской идее – залог покорения европейцами Китая и Дальнего Востока, в исторической необходимости которого Соловьев не сомневается.
Аналогичный итог Соловьев усматривает и в японской истории. Изолированная, замкнувшаяся в себе и рассчитывающая лишь на свои собственные силы, Япония просуществовала более двух веков. Но результат такого исторического отшельничества, по его мнению, оказался плачевным. Страна обессилила и пришла в упадок. Не без иронии, явно адресованной славянофилам, он следующим образом описывает сложившееся положение: «Теперь это царство имело все, что нужно с точки зрения самобытных культурно-исторических типов: имело оригинальную и довольно богатую образованность, хотя не туземного происхождения, но развившуюся на туземной почве и принявшую яркий национальный характер; имела Япония свой исторический, своеобразно сложившийся социальный строй; обладала она своим собственным “духовным началом” (ибо буддизм, слившийся с культом ками, образовал особую национальную религию), обладала, наконец, единством политическим, крепким национальным государством. Это государство стало твердо на почву исключительно национальной политики, и болезнь европейничанья была вырвана с корнем»[56]. Открытие в середине XIX в. японского государства достижениям европейской цивилизации направило, как считает Соловьев, японский народ на путь исторической жизни. Примерно в это же время в западных странах усилился интерес к восточной культуре и религиозности. Встречная тяга Востока к христианству и Запада к «нео-буддизму» указывает, по мысли философа, на важный исторический момент. Всплеск увлечения Востоком на Западе должен привести к изживанию язычества «перед окончательным торжеством вселенского христианства»[57]. И Япония, примкнув к христианскому миру, «может стать в нем желанным союзником тех исторических сил, которым суждено потрудиться для торжества царства Божия на земле»[58]. Однако уже вскоре иллюзии Соловьева относительно возможности исторического прогресса и водворения Царства Божия на земле развеяться, а не смену и придет эсхатологический пессимизм. «Таким образом, – пишет А. И. Бродский, – окончательное осуществление высших целей земной истории окажется и окончательной дискредитацией истории как сферы осуществления не только материальных, но и культурных интересов людей. Смысл истории – в ее самоотрицании»[59].
Соловьев достаточно высоко оценивал результаты модернизации Японии по западному образцу, которые указывали на то, что пробужденная Азия выходит на путь общечеловеческого развития. По крайней мере, в своей историософской публицистики начала 1890-х гг. он с воодушевлением отмечал прогрессивную роль европеизма на Востоке. Более того, успехи японского западничества служили лучшим наглядным опровержением славянофильских сомнений в благотворности европеизма и в исторической перспективе самой романо-германской цивилизации, которая, с точки зрения славянофилов, если еще и не загнивает, то явно завершает этап расцвета. Однако в своих последних произведениях Соловьев отказал Японии в перспективе войти в состав западного мира. По словам А. И. Бродского, «в работах 90-х годов Восток расценивается философом только как зло. Отличие восточной религиозности – исламской или буддийской – от христианской религиозности Запада заключается в отсутствии идеала человеческого совершенства или совершенного соединения человека с Богом, идеала богочеловечества»[60]. Япония и Китай неразличимо слились для него в «желтую угрозу», стали воплощением тех «низших стихий», которые хотят поглотить христианский мир. В «Оправдании добра» (1897) он писал: «Эта раса, которой главный представитель китайский народ, исчисляется, по крайней мере, в 200 миллионов душ, при величайшей племенной гордости, отличается и крайним презрением к жизни, не только чужой, но и своей. Более нежели вероятно, что неизбежное отныне усвоение западной культурной техники всею желтой расой будет для нее только средством, чтобы в решительной борьбе доказать превосходство своих духовных начал над европейскими»[61]. Страх перед панмонголизмом заставляет Соловьева или многое не договаривать, или противоречить себе. Иначе трудно объяснить, каким образом заимствование европейской техники поможет доказать превосходство духовных начал «азиатцев». Вероятность численного и даже материального преобладания монгольской расы можно допустить. Однако только религиозное бесплодие и социальная апатия Европы способна привести к ее духовному порабощению. Сам Соловьев признавал, что монгольское иго утвердилось на Руси, поскольку русские князья стремились к «миролюбию, избегавшему внешних войн, чтобы на досуге дома безобразничать»[62]. Правда, Соловьев предполагает, что Европа может обессилить в результате борьбы с мусульманским миром, что и обеспечит легкую победу желтой расы. «Мне кажется, – писал он, – что успех панмонголизма будет заранее облегчен тою упорною и изнурительною борьбою, которую европейским государствам придется выдержать против Ислама в Западной Азии, Северной и Средней Африке»[63]. Однако опять же в этом случае слабость Европы будет материальной, а не духовной.
Согласно «Краткой повести об антихристе», панмонголизм как умственное движение возник в Японии в конце XIX в. Он означает «собрание воедино <…> всех народов Восточной Азии с целью решительной борьбы против чужеземцев, т. е. европейцев»[64]. «Энергия, подвижность и предприимчивость» японцев вместе с «хитростью и упругостью»[65] китайцев приведут к успеху панмонголизма, т. е. покорению Европы. Победа панмонголизма, согласно Соловьеву, ознаменует наступление «последних времен». На полвека Европа утратит свою идентичность. Это будет эпоха смешения и глубокого взаимопроникновения европейских и восточных идей, «повторением en grand древнего александрийского синкретизма»[66]. Олицетворением этого синкретизма в повести является маг Аполлоний – «полуазиат и полуевропеец, католический епископ in partibus infidelium»[67] – главный сподвижник антихриста. Освобождение от монгольского владычества в результате всеевропейского объединения и восстания на деле будет означать наступление царства антихриста. Предваряя диалоги «Трех разговоров», Соловьев признавался: «В истории монгольско-европейских отношений ничто не взято прямо из Св. Писания, хотя многое имеет здесь достаточно точек опоры. В общем эта история есть ряд основанных на фактических данных соображений вероятности. Лично я думаю, что это вероятность близка к достоверности»[68]. Пророческая убежденность Соловьева проистекает из его эсхатологических предчувствий. Однако если покинуть проблематическую реальность предсказаний и вспомнить, что сам термин панмонголизм для Соловьева является своеобразной пародией на панславизм, то становится понятно, что пророчество философа наделяет всякий паннационализм максимально негативным смыслом, оценивает его как апокалиптическую силу. Панмонголизм так же, как панславизм, не просто отрицает возможность единой, универсальной культуры, а предваряет правление антихриста. Однако парадокс прорицания состоит в том, что противоположная национальному партикуляризму сила – европейские соединенные штаты – фактически и есть царство антихриста.
Впрочем, пророческий дар не подвел Соловьева. В начале ХХ в. в Китае идея национализма была положена в основу революционного учения Сунь Ятсена, а ее следствием стала национальная революция 1911 г. «Принцип нации» или «национализма» прозвучал в манифесте тайного революционного общества «Союзная лига Китая» (1905), боровшегося за восстановление китайского национального государства. Лозунг общества гласил: «Китай – государство самих китайцев». До 1911 г. национализм был направлен против маньчжурского господства. Сунь Ятсен подчеркивал, что национальная или «расовая» революция (свержение маньчжуров) должна предшествовать революции политической (установление конституционной республики). Грядущая революция, полагал Сунь Ятсен, будет не революцией героев, а «революцией нации». Примером национальной революции для него было Тайпинское восстание. «Китай должен быть государством китайцев, и управлять им должны китайцы», – писал он в 1904 г.[69]. Национализм означал восстановление власти самих китайцев над страной. «Смысл термина “национализм” понятен без особых разъяснений. <…> о чувстве национализма – оно у каждого в крови. <…> Следует, однако, понять один очень важный момент: принцип национализма отнюдь не предусматривает изгнания из нашей страны каждого иноплеменника, а предполагает лишь положить предел захвату иноплеменниками власти, принадлежащей нашей нации. Ведь мы, ханьцы, обретем свое государство лишь тогда, когда возьмем власть в наши руки, в противном случае государство, хотя и будет существовать, останется по-прежнему не нашим, не китайским государством»[70]. Согласно Сунь Ятсену, «национализм – это принцип единства государства и народа»[71]. Причем этот принцип должен дополнить те формы единства, которые традиционно признаются китайцами: единство семьи и единство рода. После первого съезда Гоминьдана (январь 1924 г.) национализм был провозглашен как общенациональный лозунг борьбы китайского народа за независимость от «чужеземного империализма»[72]. Причины возникновения китайского национализма, таким образом, лежали в политическом надругательстве со стороны других государств и чувстве национального унижения: поражение в войне с Францией (1885), Японией (1895), подавление Ихэтуаньского восстания (1900–1901). Принцип нации воспринимался как освободительная сила от власти маньчжуров и вмешательства европейских держав. Позитивная задача национализма состояла в построении национального государства, объединяющего вокруг самой многочисленной нации другие народы (маньчжуров, монголов, тибетцев, уйгуров), а со временем и формирование однонационального государства. «Корни государства – в народе. Слить в одно государство земли ханьцев, маньчжуров, монголов, хуэйцзу и тибетцев так, чтобы ханьцы, маньчжуры, монголы, хуэйцзу и тибетцы сплотились в одну семью, – значит добиться того, что мы называем национальным единством», – писал Сунь Ятсен в 1912 г.[73] Правда, на первом съезде Гоминьдана был провозглашен добровольный союз всех национальностей на основе общих интересов с «китайским национально-революционным движением». Однако конечным итогом реализации принципа национальности, фактически, оставалась ассимиляция других народов. Интересно отметить для сравнения, что появление славянофильства было, напротив, инициировано чувством национальной гордости, вызванном победой над Наполеоном в начале XIX в., а «политическое убийство», «изувечие народное» или ассимиляцию славянофилы считали основой европейской политики по отношению к покоренным народам. Задачу государства славянофилы видели в охранении и поддержке народов, входящих в его состав.
В связи с этим стоит проследить эволюцию взглядов лидера китайской революции. Сунь Ятсен – китайский западник, искавший пути развитии своей страны на основе истории и культуры Запада, надеявшийся на помощь со стороны европейских держав и Америки. Еще с 60-х гг. XIX в. маньчжурское правительство проводило политику «самоусиления», включавшую, в том числе и доктрину «заморских дел», т. е. заимствование европейской и американской военной техники. Западничество Сунь Ятсена состояло в том, что он «предлагал учиться у западных держав, с тем, чтобы усилить военную и экономическую мощь Китая и таким образом противостоять иностранной агрессии»[74]. Он предлагал открыть Китай для европейской цивилизации, но не для того, чтобы перенять европейскую культуру, поскольку Китай обладает своей самобытной цивилизацией, а чтобы путем сравнения и взаимодействия вывести эти цивилизационные начала из состояния застоя. Впрочем, в начале Сунь Ятсен для успеха модернизации не отрицал возможность воспринимать не только технические результаты, но и основы европейской жизни. Причем это восприятие может быть взаимным. Так, достижения Запада были во многом связаны с переносом исторического опыта Китая, который забыт в самом Китае. «Возвысившиеся же в новую эпоху государства Запада глубоко прониклись пониманием духа Трех династий», – писал Сунь Ятсен в 1894 г.[75]. Он имел в виду, в частности, доступную систему образования, развивающую способности человека. «В управлении же государством на Западе, – продолжал он, – многое заимствовано у Яо и Шуня: люди там получают должность соответственно их достоинству и посвящают всю жизнь одному делу»[76]. Нынешнее же отставание Китая может быть преодолено двумя совместными способами: возвращением к лучшим началам китайской исторической жизни и заимствованием достижений западной цивилизации. «Я не раз размышлял о судьбах мира и чувствую себя вправе сказать, – признавался Сунь Ятсен, – что Китай – страна, население которой огромно, а природные богатства неисчерпаемы, – следуя Западу и применяя новые методы, несомненно настигнет Европу и обгонит ее менее чем за двадцать лет»[77].
Необходимости учиться у других народов не противоречил и принцип национализма. Более того, Сунь Ятсен полагал, что современные государства Европы сложились на развалинах Римской империи именно благодаря национализму[78]. Еще в своей речи на Гаваях 13 декабря 1903 г. он провозглашал: «Мы должны развивать дух национализма среди жителей Китая, которые не являются маньчжурами; эта работа – цель моей жизни. Как только этот дух пробудится, китайская нация поднимется во всю мощь своего 400-миллионного народа и навсегда свергнет маньчжурскую династию. Тогда в Китае будет учреждена республика»[79]. В 1905 г. Сунь Ятсен сформулировал теорию «трех народных принципов»: национализма, народовластия и народного благосостояния. С пропагандой своей теории он выступал весной 1905 г. в Брюсселе на собрании революционного китайского студенчества, 30 июня 1905 г. в Токио на собрании представителей революционных антиманьчжурских организаций и 13 августа в Токио на митинге. Полнее всего теория Сунь Ятсена была представлена в популярных лекциях для партийного актива о «трех народных принципах», которые он прочитал в январе – августе 1924 г. в Гуанчжоу. «Осуществление принципа национализма Сунь Ятсен видел не только в свержении власти маньчжуров, но и в достижении Китаем равноправного положения среди других государств»[80]. «Национализм, – отмечал Сунь Ятсен в своей речи в Гуанси “Осуществим три народных принципа, построим новое государство” (4 января 1922 г.), – предполагает равенство наций во всемирном масштабе, равенство, при котором ни в коей мере не допустимо угнетение одной нации другой. Когда спустя 260 с лишним лет после того, как маньчжуры вторглись в Китай и утвердились на китайском престоле, мы, ханьцы, поднялись и свергли их господство, это явилось претворением в жизнь революционного принципа национализма»[81].
Однако вмешательство западных государств в революционные события 1911–1913 гг., репрессии, прежде всего, со стороны англичан против китайских патриотов ради защиты своих колониальных интересов привели его к разочарованию в западном пути развития, хотя до конца не развеяли иллюзии относительно цивилизационных достоинств Запада. В 1916–1917 гг. англичане пытались вовлечь Китай в войну против Германии. В то же время в самой Европе мировая война привела к росту национально-освободительных движений, а по ее итогам на карте Европы появились новые национальные государства. Агрессивная политика европейских держав утвердила Сунь Ятсена в мысли о том, что борьба за осуществление принципа национализма совпадает с борьбой за мир, в то время как отстаиваемый западными государствами космополитизм на деле оказывается средством порабощения других народов. В качестве признаков нации он указывал на кровное родство, общность языка (который выступает главным средством ассимиляции), образа жизни (включающего хозяйственную деятельность, обусловленную природными условиями), религии и единство нравов и обычаев, сложившихся не в результате военной оккупации, а являющихся следствием естественного развития. Учение Сунь Ятсена опровергало сложившееся представление о материализме мировоззрения китайцев. Для него развитие нации не возможно без возрождения духовной культуры, т. е. знания истории, изучения прошлого народа, его языка, культуры и т. п. «Прогресс возможен только при одновременном развитии материальной и духовной культуры», – писал он в работе «Программа строительства государства» (1917–1919)[82]. Пропаганда принципа «национализма», полагал он, должна привести к осознанию китайцами себя как единой национальной общности.
В учении Сунь Ятсена можно усмотреть явные параллели с творцом «принципа народности» в России, министром народного просвещения С. С. Уваровым. С. С. Уваров был таким же убежденным западником, знатоком и ценителем европейской культуры. Однако историческое значение России он усматривал не в подражании Западу, а в ее уникальности. Утверждение принципа народности, полагал он, должно привести к замирению Европы после наполеоновских войн и взаимной помощи христианских государей в целях поддержания мира (Священный союз), т. е. совместной борьбы против революции. Под революцией С. С. Уваров понимал не только события, последовавшие во Франции после 14 июля 1789 г., но и приход к власти Наполеона (в том числе его стодневный реванш в 1815 г.), а также восстановление порядка после победы над Наполеоном[83]. Формирование народности должно происходить постепенно, посредством естественного развития и под непосредственным контролем со стороны государства, в том числе благодаря поддержке и поощрению исторического образования и исследований прошлого народа и страны. Перекличка уваровской триады «православие, самодержавие, народность» с «тремя народными принципами» Сунь Ятсена поразительна еще и тем, что они совпадают в двух из трех своих пунктов. «Самодержавие» С. С. Уварова не должно смущать исследователей. В его концепции оно означает исторически сложившуюся, необходимую для существования государства форму правления. Так, например, в отчете о десятилетней деятельности министерства он писал: «Мощь самодержавной власти представляет необходимое условие существования Империи в ее настоящем виде»[84]. А в одном из ранних своих политических очерков «Император Всероссийский и Бонапарте» (1814) он прямо провозглашал в качестве политического идеала посленаполеоновского устройства «Европейскую республику»[85], противопоставляемую им идее мировой монархии, воплощением которой является Наполеон. И китайский революционер и министр самодержавного государя в равной степени уповали на «волю Провидения» или «законы Неба» в деле устроения земной судьбы народов. «Нет такого дела, – писал Сунь Ятсен, – которое не увенчалось бы успехом, когда оно согласуется с законами Неба, соответствует природе человека, следует тенденции мирового развития и отвечает потребностям общества, когда необходимость его осознана людьми, познающими первыми»[86]. С.С. Уваров также полагал, что в мире действует «великий закон предопределения», а воля Провидения приводит исторические события к разумному завершению. Все изменения, считает С. С. Уваров, должны согласовываться с существующей исторической и культурной традицией. Развитие государства должно происходить постепенно, лишь тогда оно соответствует исторической закономерности. «Закон поступательного движения», для него, – это общий принцип всех сфер человеческой жизни.
Без реализации принципа национализма, полагал Сунь Ятсен, не возможно сохранение китайского государства, т. е. политическая независимость древнего народа, а, значит, и сохранение его культуры. «Учитывая законы выживания наций в древности и теперь, следует сказать, что, если мы хотим спасти Китай и хотим, чтобы китайская нация продолжала существовать всегда, мы должны насаждать национализм»[87]. Развитие Китая Сунь Ятсен видел как двунаправленный процесс: знакомство с достижениями западной цивилизации и сохранение самобытных основ жизни китайского народа. Всемерное распространение принципа национализма должно было предохранить китайцев от унифцирующего и стирающего культурные, бытовые и национальные различия европеизма. Национализм он понимал как сознание народами, населяющими Китай, своего государственного, а не только племенного, родового или семейного, единства. Япония служила для него примером того, как за полвека с помощью сильного национального духа можно создать сильное государство. В то же время концепция Сунь Ятсена не лишена схематизма – «великая программа четырех условий», «три принципа» и т. п., – что указывает на ее утопичность. Причем Сунь Ятсен призывает не только учиться у Запада, но и двигаться вперед, оглядываясь на прошлое. Успехи Запада не противоречат основам китайской цивилизации, а лишь подтверждают ценность ее принципов. При помощи европейских идей и технических достижений можно оживить традиции идеальной древности и государственные основы мудрых правителей прошлого. Ретроутопизм Сунь Ятсена как раз и сближал его с консервативной утопией С. С. Уварова[88]. Они, конечно, не были единомышленниками, но утопизм объяснял типологическое сходство их взглядов. Более того, если учение Сунь Ятсена – это антиколониальный национализм, то С. С. Уварова нельзя назвать националистом в строгом смысле слова; он – государственник, считающий, что государственная политика в области культуры и образования, а также общая религия формируют народность. Для Сунь Ятсена же верность принципу национализма означала отстаивание политической независимости, т. е. суверенного государства.
В «принципе национализма» Сунь Ятсена не было экспансионизма. Он был проникнут гордостью за богатую культуру своего народа и даже не лишен некоторой доли исторического самодовольства. Китайский национализм возник как обида за национальное унижение, был реакцией на длительное господство в Китае чужеземцев (сначала маньчжуров, потом европейцев). Идеология китайского национализма не позволяет сопоставить его с эсхатологическим панмонголизмом.
Больше всего историософским предчувствиям Соловьева соответствовала идеология паназиатизма или теория «исторической общности судеб народов Азии», возникшая в Японии в конце XIX в., во многом вызванная успехом Японии в войне с Китаем (1894–1895). Воодушевляющее значение для распространения идей паназиатизма имела и победа Японии в войне с Россией (1904–1905). Аналогом славянофильства в Японии периода Мейдзи можно считать «кокусуй ходзон» (движение в защиту национальных особенностей)[89]. Определенные надежды на помощь со стороны Японии и даже на объединение с ней в борьбе с западной экспансией возлагал и Сунь Ятсен[90]. На рубеже XIX–XX вв. паназиатизм переплетался с антиколониальной борьбой. Сама же Япония, скорее, пыталась ответить на вызов, брошенный ей Европой и Америкой. «Можно сказать, что паназиатизм, как и японизм, был в какой-то степени реакцией на освоение западной цивилизации и рождался в борьбе с процессами “вестернизации”»[91]. Однако идеологи паназиатизма (Окакура Какудзо, Токутоми Итиро, Таруй Токити, Арао Сэй, Коноэ Ацумаро) исходили не из принципа расовой гомогенности, как предполагал Соловьев, а провозгласили лозунг «Азия едина», подразумевая духовную и ментальную общность большинства народов Азии, в том числе и населения Индии. Роль Японии они уподобляли Римской империи, считая, что Pax Japonica способна собрать азиатские народы в сильное политическое единство и отстоять целостность Китая и Кореи от претензий европейцев. В 1930-е гг. стала набирать популярность концепция Восточноазиатской федерации (Тоа Роммэй, Исивара Кандзи, Миядзаки Масаеси), опирающаяся на буддийское учение харизматичного монаха Нитирэна (1222–1282), проповедовавшего неизбежность последней битвы между буддистами и их религиозными оппонентами. Сторонники этого учения оспаривали империалистическую политику Японии в Азии. Другие варианты учения паназиатизма – «Великой восточноазиатской сферы совместного процветания», «Японской доктрины Монро», «Восточноазиатской кооперативной организации» (Тоа Кедотай) – не предполагали религиозно-эсхатологическую интерпретацию.
Учение Нитирэна считается разновидностью буддийской школы Тяньтай и в настоящее время является одной из самых распространенных школ в Японии[92]. Эта концепция исходит из тождества чувственного мира и Абсолюта (Единого Ума Будды) и веры во всеобщее спасение и силу Сутры Лотоса, приводящей к выявлению природы Будды во всем сущем. Нитирэн был убежден, что живет в эпоху «конца Дхармы» и что только в Японии теперь может возродиться истинное буддийское учение. Начало эпохи «конца закона» отмерялось от 1052 г., когда минуло две тысячи один год после ухода Будды в Нирвану. В Японии напряженно ожидали конца света (конца «буддийского закона», маппо). «Эту концепцию, – пишет А. Н. Мещеряков, – можно определить как “хронологический детерминизм”: после того, как Будда достиг нирваны, все реалии этого мира с неизбежностью ухудшаются»[93]. Именно интенция к идентификации национальной и религиозной жизни в учении Нитирэна позволяет воспринимать ее в качестве националистической доктрины. Нитирэн проповедовал идею коллективного спасения, в том числе государства, страны (Японии). Для этого необходимо установить в Японии теократическое государство, подчинить светскую власть школе Нитирэна, т. е. превратить секту в «государственную религию». Здесь Нитирэн развивал учение первого патриарха школы тэндай-сю Сайте о том, что тянтайские монахи-бодхисаттвы должны опекать государство во главе с императором, в частности, окроплять голову монарха во время церемонии вступления на престол. Поскольку согласно концепции тождества Абсолюта и мира подлинным хозяином мира («саха») является Будда Шакьямуни, то управлять им от его имени должен Нитирэн, в то время как правительство является всего лишь своеобразным «арендатором». Убежденный в своем мессианизме, Нитирэн провозгласил себя спасителем Японии, «столпом Японии». Пророчествуя о «конце Дхармы», т. е. о наступлении «последних времен», Нитирэн в качестве основного средства спасения указывал на необходимость вооруженной защиты «истинного Закона». Он призывал насильственно бороться с другими религиозными учениями; «предлагал решительные меры – искоренение дурных учений вплоть до истребления “злых монахов”»[94].
Таким образом, Нитирэн перетолковывал одну из основных буддийских заповедей, запрещающих лишать жизни любое живое существо. Его учение, допускающее насильственное сопротивление мировому злу в перспективе исчерпания времени мира, является нетипичным для буддизма[95]. Однако этим оно интересно в качестве параллели соловьевской критики толстовства в «Трех разговорах», как, впрочем, и его теократической утопии. Парадоксальным образом наибольшее историческое соответствие предвиденному Соловьевым панмонголизму можно усмотреть в японской версии паназиатизма, опиравшейся на теократические идеи монаха Нитирэна и его призывы к активной борьбе в конце времен с теми, кого он считает сторонниками мирового зла. Учение Нитирэна, показывавшего, как спасти страну в от внешней угрозы (XIII в.), оказалось востребовано эпохой начавшейся во второй половине XIX в. модернизации Японии. Последователи «школы Нитирэн» «разрабатывали буддийскую версию идеологии обновленной Японской империи; их стараниями и сам Нитирэн в японских и западных исследованиях стал выглядеть как ультранационалист»[96]. Доктрина Нитирэна обнаруживает типологическое родство с концепцией самого Соловьева, хотя историософский схематизм русского философа и разводит на разные полюса паннационализм и всемирную теократию. Эсхатология Соловьева, высказанная в «Краткой повести об антихристе», фактически опровергает его собственную концепцию, за которую его критиковали славянофилы. Как пишет А. И. Бродский, «нетрудно заметить, что грядущее царство антихриста Соловьев описывает в тех же чертах, что и чаемую им самим в прошлом Всемирную теократию»[97].
Впрочем, еще большее типологическое сходство доктрина Нитирэна обнаруживает с учением и деятельностью Иосифа Волоцкого: эсхатология, союз с государством, «теория о наказаниях и жестокостях» по отношению к религиозным противникам, адаптация учения о спасении для большинства верующих (через поминальные службы), но при этом и не отрицание исихастской практики умной молитвы, перспектива спасения не только отдельного человека, но и коллективного спасения (государства), иконопочитание[98]. Стоит заметить, что критики соловьевской идеи теократии – славянофилы (например, О. Ф. Миллер) указывали на близость взглядов Соловьева и волоколамского игумена.
Апокалиптическое восприятие своей эпохи (XIII в.) пророком Нитирэном приводило его к допущению вооруженной борьбы и насилия ради спасения страны, а также к своеобразному синтезу с добуддийскими верованиями (синтоизмом, культом ками). Более того, именно Японии отводилась роль сохранения и возрождения «истинной Дхармы», т. е. учения Будды. В ХХ в. большинство паназиатских концепций ориентировались на мирное (культурное, экономическое) объединение азиатских народов при доминировании Японской империи. Однако содержательная и теоретическая аморфность паназиатизма привела к тому, что в Японии он стал интерпретироваться в духе национализма. «Необходимо также отметить, что паназиатизм в Японии тесно переплетался с национализмом, который получил название “японизма” за использование традиционной культуры, синтоизма, бусидо в качестве идеологической основы»[99]. Национально ориентированные мыслители, отстаивавшие японский образ жизни и традиционные ценности, в условиях агрессивной колониальной политики европейцев и американцев в Азии, все больше склонялись к признанию особой роли Японии в регионе, к неизбежности ее экономического и политического доминирования. «В Японии движение в защиту национальных особенностей уже к началу 90-х гг. XIX в. приобрело явные черты паназиатиза, оправдывавшего имперскую экспансионистскую политику необходимостью защиты соседних азиатских народов от европейского империализма»[100]. Японский национализм и паназиатизм были в равной мере результатом идеологической эволюции как японских «почвенников», так и японских западников[101]. Итогом трансформации паназиатизма в национализм стало установление японской гегемонии в регионе силой.
***
В историософской топографии Востока Соловьев усматривает два полюса, олицетворяемые Японией и Китаем. Положительный в целом образ Японии обусловлен не столько реальными ее достижениями, горькие плоды которых в первой половине ХХ в. Соловьеву не суждено было увидеть, сколько ее восприятием в качестве представителя западничества на Востоке. Япония демонстрирует, что азиатские народы, принявшие начала западной цивилизации, способны к развитию и совершенствованию. Япония, действительно, изжив «китайщину», стала частью коллективного Запада. Однако ее путь к всемирно-историческому признанию оказался кровавым. На деле вестернизация Японии не привела к преодолению национальной исключительности и даже, вопреки ожиданиям Соловьева, – к панмонголизму. Напротив, национализм был усилен западным принципом эго- и этноцентризма, опирающимся на веру в свою правоту, превосходство своей культуры и насилие. Из Европы японцы заимствовали не принципы гуманистического достоинства личности и христианской любви, а римскую идею, т. е. идею большой империи. Жестокость японского милитаризма лишь отчасти объясняется безжалостными практиками «азиатизма». ХХ в. в полной мере явил тоталитарные гримасы европеизма (от коммунизма до нацизма). Даже такой идейный русский европеец, как П. Н. Милюков, диагностировал популярный у части русской эмиграции фашизм, как «черное западничество». Китай же оставался для Соловьева выразителем начал изоляционизма и коснения, сторонниками которых он выставлял славянофилов. Япония как реципиент западных ценностей воплощала принципы прогресса и ориентировалась на будущее. Китай же олицетворял застой и ориентацию на прошлое. Соловьев явно преувеличивал благотворное воздействие Европы. Запад повлиял на азиатский мир преимущественно своей материальной, так сказать телесной, стороной и нашел на Востоке достойного восприемника в деле материального прогресса. Европеизация не затронула духовные основы Востока, а, напротив, пробудила в нем материальную силу. Не Восток пришел в Европу, а Запад пустил свои корни в Азии. Предвиденный Соловьевым синкретизм свершается.
Впрочем, этот умозрительный и во многом упрощенный взгляд был нужен Соловьеву не для лучшего понимания Востока, а для проведения параллелей и аналогий с русской историей, в частности, для дискредитации славянофильства. История Японии давала достаточно тому примеров. Так, мы видим изначально заимствованный характер, как русской, так и японской культуры (из Византии и Китая, соответственно) и религии (православие и буддизм). Однако это приобщение к самобытным цивилизациям, хотя и пробудило исторические силы народов, но не стимулировало творческое культурное развитие. В итоге оно, наоборот, привело к изоляции (Московская Русь, правление клана Токугавы), которая способствовала выработке самобытных культурных форм, но существенно «подморозила» жизнь, стала причиной исторического отставания. Из культурного оцепенения Россию и Японию вывела модернизация по европейскому образцу (преобразования Петра I и, с опозданием на полтора столетия, реформы эпохи Мейдзи, а в ХХ в. американизация). К последствиям европеизации надо отнести агрессивную внешнюю политику и превращение национальных прежде государств в империи. Реакцией на «европейничанье» в России стало славянофильство. В Китае же агрессивная политика европейских держав привела к формулированию Сунь Ятсеном теории «трех народных принципов». Полемическая заносчивость и пророческое ясновидение Соловьева приводили к превратному толкованию славянофильства, к пониманию славянофильства как крайней формы национализма (национальной исключительности, национального эгоизма). Сами славянофилы говорили о народе и народности, критиковали обезнародение нашей интеллигенции и правящего слоя. В политическом плане цивилизация, как настаивал Н. Я. Данилевский, должна представлять собой либо федерацию, либо союз государств. Главная же задача государства – охранение народности. При этом большинство славянофилов исповедовали принцип: один народ – одно государства, означавший, что любой, даже малочисленный народ, при должном развитии народного самосознания может иметь свое государство. Альтернативой славянофильской концепции государства выступает западническая идея мировой империи. Славянофилы исходили из того, что христианство не отрицает национальность как форму нашего экзистенциального самосознания и бытового самоопределения. Оно лишь указывает на несущественность национальной принадлежности в деле спасения, на невозможность коллективного спасения, основанного на случайном признаке, спасения по рождению и групповой принадлежности, а не по сознательному выбору. Человек не может быть спасен помимо его воли, вне зависимости от того, к какой национальности он принадлежит. В то же время, схематически мысля противоположностями, противопоставляя Европу Азии, а Японию Китаю, Соловьев упустил важную историософскую дихотомию: вселенское – глобальное.
Примечания
Впервые опубликовано в: Малинов А. В. Панславизм как панмонголизм. Историософия национализма // Управленческое консультирование. 2017. № 10. С. 136–149; Малинов А. В. «…сладкая приманка панмонголизма» Эсхатология национализма // Соловьевские исследования. 2018. № 1. С. 6–20.
[1] Сетницкий Н. А. Русские мыслители о Китае (Н. Ф. Федоров и В. С. Соловьев) // Известия юридического факультета. Харбин: Заря, 1926. С. 191–222; Сербиненко В. В. Проблема соотношения китайской и японской культур в творчестве В. С. Соловьева // XV научная конференция «Общество и государство в Китае»: тез. и докл. Т. 1. М.: Наука, 1984. С. 26–34; Молодяков В. Э. Восток Ксеркса: Япония в философии истории В. Соловьева и А. Белого // Проблемы Дальнего Востока. 1991. № 1. С. 61–68. Молодяков В. Э. Образ Японии в Европе и России второй половины XIX – начала XX века. М.: Институт востоковедения РАН, 1996; Сербиненко В. В. Дальневосточная тема в русской философии XIX в. (А. Хомяков, Н. Данилевский, В. С. Соловьев) // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Философия. 1999. № 1. С. 101–111; Скороходова С. И. Азия в русской философии XIX в. // Соловьевские исследования. 2016. № 1. С. 26–43; Сербиненко В. В. Китай в русской мысли XIX в. (от утопии Одоевского до эсхатологии Соловьева) // В пути за Китайскую стену собрание трудов: к 60-летию А. И. Кобзева. М., 2014. С. 420–434; Сербиненко В. В. Спор о Китае: Вл. Соловьев и Н. Данилевский // Тетради по консерватизму. 2015. № 5. С. 39–48.
[2] Мароши В. В. «Монгольский миф» в русской литературе ХХ века // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2003. № 1. С. 48–54; Анненкова Н. В. Восточные интенции русского символизма // Дискурс-Пи. 2004. № 1. С. 39–41; Чач Е. А. Ориентальный контекст Серебряного века // Омский научный вестник. 2010. № 1. С. 59–62.
[3] Молодяков В. Э. «Образ Японии» в Европе и России второй половины XIX – начала ХХ века. М.: Институт востоковедения РАН, 1996. С. 115.
[4] Молодяков В. Э. «Образ Японии» в Европе и России второй половины XIX – начала ХХ века. М.: Институт востоковедения РАН, 1996. С. 116.
[5] Соловьев В. С. Япония (Историческая характеристика) // Соловьев В. С. Собрание сочинений. В 10 т. Т. 6. СПб., 1912. С. 154.
[6] Там же. С. 166.
[7] Там же. С. 168–169.
[8] Соловьев В. С. Византизм и Россия // Соловьев В. С. Собрание сочинений. В 10 т. Т. 7. СПб., 1912. С. 315.
[9] Соловьев В. С. Из философии истории // Соловьев В. С. Собрание сочинений. В 10 т. Т. 6. СПб., 1912. С. 350.
[10] Там же. С. 351.
[11] Там же.
[12] Там же. С. 353.
[13] Там же. С. 357–358.
[14] Там же. С. 359.
[15] Соловьев В. С. Япония (Историческая характеристика). С. 154.
[16] Там же.
[17] Там же. 160.
[18] Соловьев В. С. Мир Востока и Запада // Соловьев В. С. Собрание сочинений. В 10 т. Т. 7. СПб., 1912. С. 384.
[19] Соловьев В. С. Китай и Европа // Соловьев В. С. Собрание сочинений. В 10 т. Т. 6. С. 94.
[20] Там же.
[21] Соловьев В. С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории // Соловьев В. С. Сочинения в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1990. С. 737.
[22] Соловьев В. С. Враг с Востока // Соловьев В. С. Сочинения в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1990. С. 480.
[23] Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Т. 13 // Соловьев С.М. Сочинения. Книга VII. М., 1991. С. 8.
[24] Там же.
[25] Соловьев С. М. Сочинения в 18 кн. Кн. I. Т. 1–2. «История России с древнейших времени». М., 1993. С. 17.
[26] Соловьев В. С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории // Соловьев В. С. Сочинения в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1990. С. 692.
[27] Соловьев С. М. Исторические письма // Соловьев С. М. Избранные труды. Записки. М., 1983. С. 189.
[28] Там же.
[29] Бродский А. И., Никоненко В. С. Философская интерпретация художественных текстов (на примере русской литературы XIX в.): Учебное пособие. СПб.: Изд. дом С.-Петерб. ун-та, 2009. С. 81. А.И. Бродский считает, что рассуждения Соловьева приводят его к такому же пониманию исторического процесса, как и у Л.Н. Толстого (Бродский А. И. Образы судьбы в русской философии и литературе XIX–XX веков. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2011. С. 70; Бродский А. И. Логика идеологий: Из истории русской политической мысли XIX–XX веков. СПб.: б. и., 2006. С. 41).
[30] Соловьев В. С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории // Соловьев В. С. Сочинения в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1990. С. 640.
[31] Соловьев В. С. Три разговора. С. 695.
[32] Там же. С. 696.
[33] Там же.
[34] Куприянов В. А. Структура Европы в философско-историческом учении В. И. Ламанского // Вече. Журнал русской философии и культуры. 2016. Вып. 28. С. 215–222.
[35] Соловьев В. С. Национальный вопрос в России. Выпуск первый. 1883 – 1888 // Соловьев В. С. Собрание сочинений. В 10 т. Т. 5. СПб., 1912. С. 24.
[36] Там же. С. 25–26.
[37] Там же. С. 26.
[38] Там же.
[39] Там же. С. 27.
[40] Там же. С. 13.
[41] Соловьев В. С. Китай и Европа. С. 97.
[42] Соловьев В. С. Национальный вопрос в России. Выпуск первый. С. 12.
[43] Соловьев В. С. Китай и Европа. С. 98.
[44] Там же. С. 99.
[45] Там же. С. 100.
[46] Там же. С. 122–123.
[47] Там же. С. 145.
[48] Там же. С. 146–147.
[49] Там же. С. 147.
[50] Там же. С. 148.
[51] Там же.
[52] Там же. С. 149.
[53] Там же.
[54] Там же.
[55] Там же. С. 150.
[56] Соловьев В. С. Япония. С. 171.
[57] Там же. С. 173.
[58] Там же.
[59] Бродский А. И. Владимир Соловьев. СПб.: Наука, 2017. С. 194.
[60] Там же. С. 183.
[61] Соловьев В. С. Оправдание добра // Соловьев В. С. Сочинения. В 2 т. Т. 1. М.: Наука, 1988. С. 477.
[62] Соловьев В. С. Три разговора. С. 659.
[63] Там же. С. 643.
[64] Там же. С. 736.
[65] Там же. С. 737.
[66] Там же. С. 739.
[67] Там же. С. 747.
[68] Там же. С. 642.
[69] Сунь Ятсен. Декларация Объединенного союза // Сунь Ятсен. Избранные произведения. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Наука, 1985. С. 104.
[70] Сунь Ятсен. Три народных принципа и будущее Китая // Сунь Ятсен. Избранные произведения. С. 110.
[71] Сунь Ятсен. Три народных принципа // Сунь Ятсен. Избранные произведения. С. 378.
[72] Сенин Н. Г. Общественно-политические и философские взгляды Сунь Ят-сена. М.: Издательство АН СССР, 1956. С. 60.
[73] Сунь Ятсен. Декларация при вступлении на пост временного президента Республики // Сунь Ятсен. Избранные произведения. С. 121.
[74] Тихвинский Л. С. Завещание китайского революционера: Сунь Ятсен: жизнь, борьба и эволюция политических взглядов. М.: Политиздат, 1986. С. 14.
[75] Сунь Ятсен. Представление Ли Хунчжану // Сунь Ятсен. Избранные произведения. С. 46.
[76] Там же. С. 48.
[77] Там же. С. 57.
[78] Сунь Ятсен. К выходу в свет первого номера «Минь бао» // Сунь Ятсен. Избранные произведения. С. 107.
[79] Цит. по: Тихвинский Л. С. Завещание китайского революционера. С. 40.
[80] Там же. С. 47.
[81] Сунь Ятсен. Осуществим три народных принципа, построим новое государство // Сунь Ятсен. Избранные произведения. С. 303.
[82] Сунь Ятсен. Программа строительства государства // Сунь Ятсен. Избранные произведения. С. 172.
[83] Уваров С. С. Воззвание к Европе // Уваров С. С. Избранные труды. М.: РОССПЭН, 2010. С. 247–249.
[84] Уваров С. С. Десятилетие Министерства народного просвещения. 1833–1843. Записка, представленная государю императору Николаю Павловичу министром народного просвещения гр. Уваровым в 1843 г. СПб., 1864. С. 33.
[85] Уваров С. С. Император Всероссийский и Бонапарте // Уваров С. С. Избранные труды. С. 248.
[86] Сунь Ятсен. Программа строительства государства // Сунь Ятсен. Избранные произведения. С. 224.
[87] Сунь Ятсен. Три народных принципа // Сунь Ятсен. Избранные произведения. С. 381–382.
[88] Симосато Т. Переосмысление концепции «народность»: С. С. Уваров как консервативный мыслитель // Мысль. Журнал Петербургского философского общества. Выпуск 20. СПб., 2016. С. 87–97.
[89] Верисоцкая Е. В. Российская и японская интеллигенция XIX в. о проблемах европеизации // Известия Восточного института. 1994. № 1. С. 131.
[90] Делюсин Л. П. Идеи паназиатизма в учении Сунь Ят-сена о национализме // Китай: традиции и современность. М.: Наука, 1976. С. 168–183.
[91] Малова К. В. Концепции паназиатизма в Японии (30-е гг. XX в.) // Известия Восточного института. 1996. № 3. С. 110.
[92] Торчинов Е. А. Введение в буддологию. Курс лекций. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2000. С. 190.
[93] Мещеряков А. Н. Размер имеет значение: Эволюция понятия «островная страна» в японской культуре // Вопросы философии. 2012. № 8. С. 75.
[94] Трубникова Н. Н., Бабкова М. В. Традиция «исконной просветленности» и споры между буддийскими школами в Японии в эпоху Камакура (XIII в.) // Вопросы философии. 2010. № 4. С. 130.
[95] Шомахмадов С. Х. Подвижник «Лотосовой сутры» (Нитирэн и его теократическая доктрина) // Серия «Symposium». Конференция «Путь Востока», Путь Востока: Традиции освобождения. Выпуск 4. Материалы III Молодежной научной конференции по проблемам философии, религии, культуры Востока. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2000. C. 89–96. Игнатович А. Н. Школа Нитирэн. М.: Издательство «Стилсервис», 2002. – 456 с.
[96] Трубникова Н. Н. Учитель и ученики в японском буддизме: случай Нитирэна // Человек. 2013. № 1. С. 111.
[97] Бродский А. И. Владимир Соловьев. С. 192.
[98] Об учении Иосифа Волоцкого см.: Григоренко А. Ю. Духовная культура Московской Руси конца XV – первой половины XVI века. СПб.: СПбГИЭУ, 2012. С. 104–181.
[99] Малова К. В. Концепции паназиатизма в Японии (30-е гг. XX в.). С. 109.
[100] Верисоцкая Е. В. Российская и японская интеллигенция XIX в. о проблемах европеизации. С. 136–137.
[101] «История японской модернизации периода Мейдзи с полным основанием свидетельствует, что охранители, начав с благородных идей защиты национальной культуры, закончили откровенным национализмом – духом Ямато во внутренней политике и паназиатизмом – во внешней. Но, как это ни парадоксально, западники в конце концов пришли к тому же» (Верисоцкая Е. В. Общественно-политические взгляды японских интеллектуалов в конце XIX века (80–90-е гг.) // Известия Восточного института. 2003. № 7. С. 60).
В заставке использована картина Сергея Иванова «Баскаки», 1909, Музей истории города Москвы, Москва
© Алексей Малинов, 2023
© НП «Русская культура», 2023