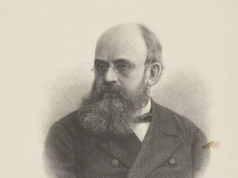В монографии о В. С. Соловьеве А. Ф. Лосев отмечал, что «отношение Вл. Соловьева к славянофильству является чрезвычайно сложной проблемой, которая включает и такие, например, вопросы, как расположенность Вл. Соловьева к Хомякову и И. Аксакову при отрицательном отношении к славянофильству вообще»[1]. Безусловно, мнение Соловьева о славянофилах формировалось в том числе под влиянием славянофильских откликов на его работы и личного знакомства с последователями этого учения. Другой стороной той же проблемы является вопрос о том, как сами славянофилы относились к Соловьеву. Вторя А. Ф. Лосеву, можно сказать, что многие славянофилы испытывали расположенность и личную симпатию к Соловьеву при общем отрицательном отношении к его учению. В. Л. Величко, например, свидетельствовал о «резком расхождении» (надо полагать взаимном) Соловьева с «известным воинствующим славянофилом» М. О. Кояловичем, к которому он, тем не менее, сохранял искреннее уважение и «часто ездил к нему вести дружеские споры»[2]. М. О. Коялович был не единственным столичным славянофилом, с которым вел знакомство Соловьев.
Конечно, для Петербурга славянофильство не было органичным явлением. Родоначальники славянофильства противопоставляли свой кружок именно «петербургскому направлению». Тем не менее, со временем славянофильство прижилось и в обезнароденной и онемеченной чиновно-бюрократической столице. На историко-филологическом факультете Петербургского университета, где Соловьев защищал диссертации и был принят в должности приват-доцента на кафедру философии, он встретил поддержку, прежде всего, со стороны славянофильствующей профессуры: историка К. Н. Бестужева-Рюмина, слависта В. И. Ламанского, историка русской литературы и фольклориста О. Ф. Миллера. Благоприятное отношение славянофилов к Соловьеву вполне объяснимо. Своими ранними работами («Философские начала цельного знания», «Три силы») он дал повод считать себя продолжателем дела московского кружка. Однако именно в Петербурге в мировоззрении Соловьева произошел существенный поворот, когда он, по словам К. В. Мочульского «отошел от славянофильства и даже православия»[3]. Этот поворот совпал с уходом Соловьева из Петербургского университета. Петербургских славянофилов ждало скорое разочарование в Соловьеве. Разочарование особенно сильное на фоне тех ожиданий, которые они с ним связывали.
Мнение университетских славянофилов о Соловьеве и история их взаимоотношений интересны хотя бы тем, что известны в гораздо меньшей степени, чем, например, его полемика с Н. Я. Данилевским, Н. Н. Страховым и К. Н. Леонтьевым. К. Н. Бестужев-Рюмин, В. И. Ламанский и О. Ф. Миллер оказались как бы в тени этой полемики, хотя во многом благодаря им эта полемика состоялась. К. Н. Бестужев-Рюмин, В. И. Ламанский и О. Ф. Миллер были одними из организаторов и активных деятелей Санкт-Петербургского славянского благотворительного общества. К. Н. Бестужев-Рюмин и В. И. Ламанский в разные годы были председателями этого общества и редакторами его «Известий», а О. Ф. Миллер – членом Совета Общества. Именно на страницах «Известий Санкт-Петербургского славянского благотворительного общества» прежде всего и развернулась пря славянофилов с Соловьевым. Университетские славянофилы были близко знакомы с Н. Я. Данилевским, во многом разделяли его взгляды. Цивилизационная концепция «трех миров» В. И. Ламанского формировалась в те же годы, когда Н. Я. Данилевский работал над «Россией и Европой», а его докторская диссертация «Об историческом изучении греко-славянского мира в Европе», в которой В. И. Ламанский предпринял одно из первых развернутых изложений своего учения, печаталась в журнале «Заря» вслед за книгой Н. Я. Данилевского и вышла отдельным изданием в один с ней год (1871). Несмотря на историографический жанр диссертации В. И. Ламанского, параллели с концепцией Н. Я. Данилевского были очевидны. Впрочем, их взаимное общение не позволяет говорить об одностороннем заимствовании. К. Н. Бестужев-Рюмин, как известно, занялся популяризацией учения Н. Я. Данилевского. Однако не стоит буквально переносить критику концепции Н. Я. Данилевского, высказанную Соловьевым, на В. И. Ламанского и К. Н. Бестужева-Рюмина. Столь же не обоснована и проекция на университетских славянофилов критических выпадов Соловьева против консерваторов. К. Н. Бестужев-Рюмин, В. И. Ламанский и О. Ф. Миллер продолжали как раз либеральную линию, идущую от ранних славянофилов, и открыто конфронтировали с националистически настроенными членами Санкт-Петербургского славянского благотворительного общества. Многочисленные переиздания работ Соловьева делают излишним пересказ его взглядов (как славянофильских, так и антиславянофильских), а богатая исследовательская литература позволяет опустить ход и содержание его полемики с Н. Я. Данилевским, Н. Н. Страховым и К. Н. Леонтьевым[4].
В личном плане ближе всего к Соловьеву стоял Константин Николаевич Бестужев-Рюмин (1829–1897). Бестужев-Рюмин относил себя к ученикам С. М. Соловьева (он окончил юридический факультет Московского университета, на котором С. М. Соловьев читал курс русской истории в том же объеме, что и для историков), но регулярно выступал с подробнейшими критическими рецензиями на выходившие тома «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева, а также убедительно опровергал построения других представителей «государственной школы» (К. Д. Кавелина и Б. Н. Чичерина). Взаимные отношения Бестужева-Рюмина и Соловьева отчасти уже рассматривались на страницах «Соловьевских исследований»[5], нашли они отражение и на комментаторских задворках продолжающегося академического «Полного собрания сочинений и писем в двадцати томах» В. С. Соловьева. В Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский дом) в фонде К. Н. Бестужева-Рюмина сохранилось семь писем к нему Соловьева (РО ИРЛИ РАН. 25038/CZXXXб57. Л. 1–14), опубликованных в свое время Э.Л. Радловым. Из писем видно, что именно через Бестужева-Рюмина Соловьев передал историко-филологи-ческому факультету свою докторскую диссертацию для защиты, шантажировал тот же факультет отъездом в Новороссийский университет, если ему не будет предоставлена «экстраординатура с доцентским жалованием», просил раздать экземпляры своих «Чтений о Богочеловечестве» курсисткам и проч. В 1878 г. Соловьев пригласил Бестужева-Рюмина в качестве одного из соучредителей в создаваемое им «Общество любителей философских знаний».
Бестужев-Рюмин всячески поддерживал и по возможности покровительствовал Соловьеву (Бестужев-Рюмин преподавал русскую историю членам императорской семьи, в том числе, в свое время, и будущему императору Александру III). Он гордился, что смог привлечь Соловьева к преподаванию философии на Высших женских курсах, а позднее с интересом следил за его историософской публицистикой. Историк Е. Ф. Шмурло в книге о своем учителе приводит фрагменты из писем Бестужева-Рюмина, в которых тот высказывал свое отношение к Соловьеву и его учению. В архиве Бестужева-Рюмина эти письма не сохранились, поэтому приходится довольствоваться выдержками из книги Е. Ф. Шмурло. Лекции и публичные выступления Соловьева также привлекали внимание Бестужева-Рюмина. «Вместе с нами, – вспоминала бывшая слушательница Высших женских курсов, – с юношеским увлечением следил он за философскими лекциями Вл. С. Соловьева, помогал нам, многое разъяснял. Он стремился привлечь лучших профессоров и возможно более приблизить наш курс к университетскому»[6]. Биограф Соловьева С. М. Лукьянов приводит письмо Бестужева-Рюмина к вдове своего друга С. В. Ешевского, на сестре которого он был женат, о защите В. С. Соловьевым магистерской диссертации: «Дорогая моя Юлия Петровна! Был вчера диспут вашего любимца Соловьева. Знаю, что он интересует вас, и потому спешу написать вам несколько строк. Такого диспута я не помню, и никогда мне не случалось встречать такую умственную силу лицом к лицу. Необыкновенная вера в то, что он говорит, необыкновенная находчивость, какое-то уверенное спокойствие – все это признаки высокого ума. Внешней манерой он много напоминает отца, даже в складе ума есть сходство; но мне кажется, что этот пойдет дальше. В нашем кругу осталось какое-то обаятельное впечатление; Замысловский, выходя с диспута, сказал: “он стоит как пророк”. И действительно, было что-то вдохновенное. Оппонентов было много из публики, спор был оживленный; публика разделилась на две партии; одни хлопали Соловьеву, другие – его противникам. Если будущая деятельность оправдает надежды, возбужденные этим днем, Россию можно поздравить с гениальным человеком…»[7]. Письмо Бестужева-Рюмина носит несколько приподнятый характер, но таково, видимо, было впечатление от магистерского диспута. В записи от 6 апреля Бестужев-Рюмин отмечал диспут Соловьева и в своей записной книжке[8], а затем неоднократно помещал свои отзывы о лекциях философа, которые регулярно посещал. Например: «Лекция Соловьева в Университете – успех полный» (20 января 1880 г.)[9]; «Соловьев прочел блистательную речь» (14 марта 1881 г.)[10] и др. Высоко отзывался о Соловьеве Бестужев-Рюмин в письме к И. С. Аксакову 9 декабря 1881 г.[11]. Историк очень волновался за судьбу Соловьева, когда узнал о его выступлении с призывом к Александру III помиловать убийц его отца и с тревогой отписывал об этом в записной книжке[12]. Бестужев-Рюмин, вероятно, разделял это требование. По крайней мере, когда Л. Н. Толстой написал императору письмо с призывом амнистировать цареубийц, именно Бестужев-Рюмин через вел. кн. Сергея Александровича передал это письмо государю, после того как друг Л. Н. Толстого Н. Н. Страхов, также вхожий в императорскую семью, не решился этого сделать.
Касаясь взаимоотношений Бестужева-Рюмина и Соловьева, Е. Ф. Шмурло писал: «Вл. Соловьева Бестужев-Рюмин ставил, особенно в эту пору (1883 г. – А. М.), очень высоко. Он гордился тем, что ему удалось такой выдающийся талант, человека с таким обширным и глубоким образованием привлечь на Высшие женские курсы и убедить его читать там лекции по философии; с полным сочувствием следил он за развитием его дарований и возлагал на него большие надежды»[13]. И тут же Е. Ф. Шмурло приводил цитату из письма Бестужева-Рюмина от 12 мая 1883 г.: «Вспомните, что в числе профессоров (В. Ж. Курсов) был человек, которому я не в версту (говоря языком местничества), которому, вероятно, суждено иметь еще огромное влияние, а, может быть, если он не собьется, историческое значение»[14]. Е. Ф. Шмурло в своей книге приводит ряд писем Бестужева-Рюмина из Рима, относящихся к 1883 и началу 1884 г., посвященных историософским статьям Соловьева. Бестужев-Рюмин сопоставляет В. С. Соловьева с А. С. Хомяковым по силе и таланту, видит в нем продолжателя дела лидера славянофилов (недаром и в Соловьеве, и в славянофилах он замечал веру в то, что они говорят), но сокрушался об отступничестве Соловьева в католицизм. Поэтому в полемике между Соловьевым и Н. Н. Страховым Бестужев-Рюмин был на стороне Н. Н. Страхова.
В письмах Бестужев-Рюмин высказывался о Соловьеве в таких выражениях, как «талант изумительный», «эстетика за ним»[15]. «Да, – сетовал он, – в Русской земле великие люди или рано умирают, или сами себя хоронят. Впрочем, из великих очень этот был бы первый, авось-либо с ним этого не случиться»[16]. Здесь же Бестужев-Рюмин касался философско-исторических вопросов, которые не решался, по-видимому, обсуждать в статьях и специальных работах. Неофициальный характер писем делал его более свободным в суждениях.
«Всечеловечество, – писал он по поводу статьи Соловьева “Великий спор и христианская политика”, – возможно только в будущем мире, т. е. уже неземном, а здесь необходимо разнообразие, а при разнообразии неизбежна борьба. В ней до сих пор состояла история. Может измениться форма борьбы, но борьба останется. Бóльшая или меньшая примесь зла к добру есть необходимое следствие несовершенства и необходимое побуждение к развитию, совершенствованию. Я верю, что наступающий исторический период наш; но не думаю, чтобы им завершилась история. Нами должно только кончится преобладание арийского племени. Не думаю, чтобы все другие племена созданы были служить только этнографическим материалом»[17].
Эсхатологические ожидания Бестужев-Рюмин связывал не со славянством, а с Китаем. Разделяя представления Соловьева о «желтой угрозе», он считал, что господство Китая будет означать предвещенную Евангелием временную победу зла над добром в конце времен. «Мне всегда казалось, что этому народу, – писал историк в январе 1883 г. о китайцах, – когда он познакомится с техническою стороною цивилизации европейской, принадлежит страшная роль в будущем. Он народ материалист, народ без веры и без совести. Мне чудится в нем войско Антихриста. Впрочем, это опять область гаданий»[18].
«Если есть в желтой расе отдельные лица, – продолжал он в другом письме, – принимающие христианство, то едва ли вся раса когда-либо примет его. Если семитизм выродился в рационализм монотеистический (в еврействе последней формации и мухамеданстве), то рационализм позитивистический есть, кажется, последнее слово монгольской расы. В Евангелии говорится о проповеди Евангелия по всему миру, но нигде не говорится о всеобщем его принятии. Зло и неправда должны сохраниться до “исполнения времен”, как плевелы, о которых говорит притча Христова, до времени жатвы. Вы знаете, что перед самым концом зло должно временно восторжествовать. Я глубоко верю тому, что за преобладанием истины, которая представляется мне в виде торжества славянской идеи в ее чистом виде, т. е. православия, – ибо мне думается, что только в славянском мире явится во всей своей чистоте православие, как оно чуется нашим великим учителям Хомякову, Самарину, Достоевскому, Соловьеву (заблуждения этого временное дело, а в сущности он должен стать наряду с величайшим учителем, т. е. Хомяковым, и продолжать его дело), за преобладанием истины, говорю я, должно последовать преобладание лжи – китайский позитивизм, царство Антихриста, – и тогда наступит кончина мира. Может быть, вы скажете, что я слишком мрачно смотрю на китайцев; но так мне кажется, насколько я знаю Китай – по трудам русских синологов и по рассказам о китайцах в Калифорнии (Брет-Гарта). Это народ выносливый, трудолюбивый, но лишенный и идеала и внутреннего нравственного чувства; их нравственность, как и их ученость, – внешняя. Вспомните сочувствие XVIII в. к Китаю: оно плод не незнания, как думают, но сродства: энциклопедисты инстинктивно почувствовали родственное себе начало в этом далеком народе; мандаринский взгляд на жизнь, наследие Вольтера, жив еще до сих пор в мечтах Ренана об ученых, которые практическими изобретениями будут господствовать в мире. Это не философы Платона и не теократия Соловьева, это просто мандарины. Если этот взгляд пробивает себе дорогу теперь (его не чужд Конт) в конце романо-германской цивилизации, то еще с большей силою он выступает тогда, когда новое начало, в силу закона бренности и несовершенства проявления в человечестве божественного, дойдет до конца. Таково мое убеждение: я не могу думать, чтобы в человечестве в его земном поприще что-нибудь было вечно и потому я повторю с Карамзиным: “пусть она (Россия) живет долго, долго, если на земле нет ничего бессмертного, кроме души человеческой”. Верю, что нам придется жить долго: до сих пор мы только готовились к жизни, ибо жизнь великого народа есть исполнение его всемирно-исторического призвания. Призвание наше – соединить Восток и Запад в высшем начале – православии, в проведении этого высшего начала во все сферы жизни. Но дело наше, благословенное (я верю в это) Богом, все-таки дело человеческое, и св. Писание нас учит тому, что в конце мира, хотя и не надолго, но всюду восторжествует зло и только тогда, но уже без действия человеческого погибнет и на веки»[19].
Несмотря на несогласие с рядом идей Соловьева, Бестужев-Рюмин в целом не изменил своего высокого мнения о философе. Более того, мысли Соловьева, в том числе и те, которые Бестужев-Рюмин не принимал, служили стимулом для его собственных историософских размышлений. Не случайно, во многом с Бестужева-Рюмина в Петербургском университете стала завязываться традиция философского осмысления истории.
Другой коллега Бестужева-Рюмина по академическому цеху, славист Владимир Иванович Ламанский (1833–1914) не оставил сколько-нибудь подробных свидетельств своего отношения к Соловьеву. Он не ссылался на него в своих печатных трудах, но, без сомнения следил за полемикой с Соловьевым на страницах «Известий Санкт-Петербургского славянского благотворительного общества». О знакомстве Ламанского с философскими сочинениями Соловьева говорит хотя бы тот факт, что Ламанский был назначен историко-филологическим факультетом оппонентом на защите магистерской диссертации Соловьева, хотя в итоге оппонентом выступил учитель Ламанского декан факультета И. И. Срезневский[20]. С. М. Лукьянов высказывал предположение, что назначение Ламанского оппонентом «объясняется, может быть, некоторой славянофильской тенденцией автора диссертации»[21]. Конечно, наиболее подходящей кандидатурой для оппонирования был профессор Ф. Ф. Сидонский, но он умер в конце 1873 г. Ламанский же и в своей докторской диссертации «Об изучении греко-славянского мира в Европе» (1871) и в статьях заявил о себе как о философе, а не только историке и филологе-слависте. К началу 1870-х гг. его философско-историческая концепция уже вполне сложилась. Ламанский никогда не скрывал своих славянофильских симпатий и открыто проповедовал их с кафедры (в отличии, например, от Бестужева-Рюмина).
Ламанский присутствовал на защитах диссертаций Соловьева и, вероятно, не в полной мере разделял восхищение Бестужева-Рюмина. Посещал Ламанский и лекции Соловьева, которые заставили его изменить мнение о философе. По крайней мере, в одном из писем И. С. Аксакову (2 декабря 1880 г.) он признавался: «Заметно уже в умственном нашем движении и развитии нечто новое. Вл. Соловьев начинал читать лекции. Я сознаю теперь, что был неправ. Он может и должен принести большую пользу»[22]. После ухода Соловьева из Петербургского университета Ламанский продолжал следить за его публицистикой. Как и у других славянофилов наибольшее неприятие у него вызывали католические симпатии Соловьева, или, по выражению Ламанского, «униатские стремления». В одном из посланий И. С. Аксакову, относящемуся, вероятно, к 1882 г. или 1884 г., он писал: «Глубоко меня печалит и огорчает новая и последняя эволюция нашего или Вашего Вл. Соловьева. Посмотрите, чего доброго, он решительно перейдет в католицизм. Ему уже жаль, что у нас нет постоянного Папского Нунция. <…> Страсть все обобщать и соединять самые далекие точки, замечательная способность синтеза и бедность анализа, ничтожная наблюдательность и вечное пребывание на отвлеченных высях, при котором никогда невозможно опознать наличной действительности и окружающего, несгораемое желание, неутомимая жажда сказать, поведать миру нечто новое, неслыханное и неожиданное. Вот, кажется, где кроется главная причина католических увлечений Соловьева. Вероятно, уже за ним теперь ухаживают петербургские католики, и барыни и разные ловцы душ. Уже езуиты, раз окликнувшись, приветствовали его и поощрили. А теперь воспоют ему хвалебный гимн. Все это ему будет более и более кружить голову.
Лев Толстой, по-моему безвозвратно свихнувшийся, Соловьев, смотрящий и показывающий на Рим – все это очень грустные явления нашей современности. Если у Сол[овьева] так пойдет, то кончится тем, что он или женится на как[ой-]ниб[удь]… польке или поступит в как[ой-]ниб[удь] орден, как Печерин»[23]. К сопоставлению Соловьева с Толстым Ламанский обращался и позже, причем в таком же скептическом смысле, не изменив, вероятно, с годами свое мнение о русском философе. Так, 20/4 марта 1900 г. один из учеников Ламанского, Н.В. Ястребов, сообщал ему из Вены: «Вот Вы пишите, что ни от Соловьева, ни от Толстого нельзя ждать “возрождения”»[24]. И, наконец, в еще одном недатированном письме к И. С. Аксакову Ламанский уже с явным раздражением замечал о Соловьеве: «Мне он, между нами, ужасно надоел. В нем есть, бесспорно, даровитость, но много и чего то… недоделанного и больного»[25]. Приведу еще один факт косвенного взаимодействия или даже «взаимозаменимости» Ламанского и Соловьева. 12 октября 1895 г. другой ученик Ламанского, А. Л. Погодин, обращался к учителю со следующей просьбой:
«Фл. Ф. Павленков, с которым мне очень полезно вести дела, предложил мне перевести для него “Изложение философской системы Огюста Конта” Мисс Мартино и “Этику” Гефдинга. Дело, которое обеспечило бы мне заработок на целый год, остановилось из-за цензурных помех. Дело в том, что когда-то было наложено на них запрещенье, которому сама цензура не придает более никакого значения. Сами цензоры говорили Павленкову, что разрешение перевести эти книги зависит исключительно от того, кто будет ходатайствовать перед Дурново или Феоктистовым об этом деле. Мы думали обратиться к Влад. Соловьеву, но он, кажется, уехал опять в Финляндию. Тогда мы остановились на Вас: я – потому что, после долгого опыта, вполне убедился в Ваших заботах обо мне, – он – потому, что уверен в том, что Феоктистов Вам ни в каком случае не откажет. Итак, я к Вам, как “к отцу родному” обращаюсь с большой просьбой: в интересах издания хороших книг, моего заработка и пр. не откажите посодействовать этому делу»[26].
Ламанский так и не решился открыто выступить против Соловьева, вероятно, укрепившись в своем первоначальном впечатлении о произвольности и малой пригодности соловьевских спекуляций. Впрочем, желающих оспорить взгляды Соловьева среди славянофилов было достаточно.
Одним из них оказался историк русской литературы и первый биограф Ф. М. Достоевского Орест Федорович Миллер (1833–1889). Исследования Миллера по русскому эпосу относят к так называемой «мифологической школе», дань уважения которой Соловьев отдал в своей первой работе «Мифологический процесс в древнем язычестве». Однако доподлинно не известно, был ли Соловьев знаком с работами Миллера, следил ли за его полемикой со В. В. Стасовым о происхождении русских былин и т. п. Славянофилов не могло не возмутить истолкование славянофильства как учения о национальном эгоизме, национальной исключительности, которое давал в своих статьях Соловьев, записывавший к тому же в славянофильские ряды М. Н. Каткова. Петербургские славянофилы неоднократно выступали против той националистически-полицейской идеологии, которую проповедовал М. Н. Катков. В 1887 г. Миллер прочитал в Петербургском университете лекцию «Славянофилы и Катков», опубликованную затем в газете «Голос», в которой противопоставил славянофильские идеалы катковской идеологии. Лекция послужила поводом к увольнению Миллера из университета. Однако не соловьевская экзегеза славянофильства вызывала отторжение у Бестужева-Рюмина, Ламанского и Миллера. Бестужев-Рюмин и Миллер посвятили отдельные циклы статей изложению славянофильского учения, полагая содержание славянофильства уже достаточно выясненным[27]. Они не могли принять теократическую утопию Соловьева, призыв признать главенство в христианском мире римского первосвященника, под властью которого должно объединиться христианство. Ответить Соловьеву решился Миллер статьей «Церковь и византийство», вышедшей в 1884 г. в журнале «Киевская старина». Это был отклик на статью Соловьева «Славянский вопрос»[28].
История издания статьи Миллера рассмотрена в предисловии Д. А. Бадаляна к публикации письма И. С. Аксакова Миллеру[29]. Первоначально Миллер отправил статью И. С. Аксакову для публикации в газете «Русь». И. С. Аксаков статью не принял, охарактеризовав ее как «религиозный памфлет» и обвинив Миллера в том, что он творит над канонизированными православной церковью византийскими правителями «суд литературный», попутно упрекая автора в отсутствии смирения[30]. Позиция Миллера, полагал И. С. Аксаков, не только очерняет церковь, но и смущает верующих. По его словам, Миллер «глумится над союзом Церкви и государства»[31]. Поводом к написанию статьи послужили не только выступления Соловьева, но и книга церковного историка Ф. А. Терновского «Грековосточная церковь в период вселенских соборов. Чтения о церковной истории Византии от императора Константина Великого до императрицы Феодоры (312–842)» (Киев, 1883). В 1884 г. Ф. А. Терновцев скончался в возрасте 46 лет, поэтому статья Миллера была еще и откликом на его смерть. На книгу Ф. А. Терновцева Миллер ссылается в своей статье чаще, чем на Соловьева, поэтому статья оставляет читателя в состоянии некоторого недоумения. Она перенасыщена цитатами и фактами из церковной истории Византии и Руси. Помимо Ф. А. Терновцева Миллер неоднократно отсылает к взглядам Ф. М. Достоевского, К. Н. Леонтьева, А. С. Хомякова, В. И. Ламанского. Из-за обилия цитат, фактов и мнений критика Миллером Соловьева выглядит не достаточно убедительной. Не случайно, его статью Д. А. Бадалян назвал «не вполне состоявшейся» и даже «школярской»[32].
В статье Миллер выступает против идеи Соловьева о необходимости унии между католичеством и православием «в видах оживления и упорядочения нашей церкви», полагая, что борьба с папством – это «нерв нашей истории». К одной из основ славянофильства Миллер относил идеал свободы совести, отказ от любых форм принуждения в делах веры. Славянофилы постоянно проповедовали свободу совести, выступая, в частности, против преследований старообрядцев. Этой свободой, полагали они, пренебрегла римская церковь, предав вселенский характер христианства и провозгласив идеал национальной исключительности. В полной мере этот идеал был воспринят византийцами. Для Миллер, Византия – это наследница римских начал, языческих в своей основе, поэтому перед русским народом стоит историческая задача изжить «римскую стихию византийства», а не впитать ее в новой форме унии с первым Римом.
Каково же содержание римской идеи? «Эта римская стихия, – писал Миллер, – сказалась уже, как положительно утверждал Хомяков, в самом провозглашении христианства государственною религиею со всеми его неудобными для церкви следствиями. В этом провозглашении, как и в дальнейшем вмешательстве в дела церкви, слышался император – понтифекс…»[33]. Римская идея – идея единого христианского царства с государственной религией, возглавляемой императором. Византия в силу сложившихся исторических условий сохранила эту идею в более полном и, так сказать, чистом виде. Только «чистота» эта была языческой, а не христианской. «Но если язычество не знало единства в смысле всечеловеческого братства, – рассуждал Миллер, – то оно ведь завершилось единой римской державой. По распадении ее на две части и сокрушении ее так называемыми варварами на западе, она везде завещала новому Риму в лице его христианских первосвященников свои предания мирового владычества, как будто теперь духовного, в сущности же снабженного всеми принудительными атрибутами старого государственного начала, а потому и доходившего до всевозможных ужасов и преступлений. На востоке же уцелело само государство во всей полноте своего римского строя, и в силу миродержавных преданий Рима византийские государи смотрели на свою империю, как на единое тело для единого христианского духа, а на себя, как на единых царей всего христианства, с принятием которого должна была соединяться зависимость от их верховной власти всяких “так называемых” царей»[34]. На христианском востоке – наследнике Византии – до сих пор не изжито «цезареопапство». Именно его, т. е. «нечестивый союз церкви служить с государством» унаследовала от Византии и Русь. Вместо церкви как начала единства, основанного на свободе и любви, в византизме возобладало государственное начало, основанное на принуждении.
Носителем тех же принципов на Западе в виду слабости государства, стали римские папы, которые задались «целью мало по малу развить свою собственную власть до такого же миродержавного и принудительного значения, каким запечатлена была власть императора»[35]. Дошло даже до догмата о непогрешимости папы.
Римская идея – «смешение Божьего с кесаревым» – была воспринята Русью от Византии. Союз с Римом уже имел место в русской истории. По словам Миллера, «к нам через Византию давно уже проникал Рим, что хотя мы порою старались разделаться с ним, но окончательно разделаться не могли, так что в новом усиленном призвании Рима не представляется нам ни малейшей надобности»[36]. «Восточноримские» начала уже в полной мере выяснились в русской истории, закрепив языческое понимание власти. Не в дальнейшем укреплении и распространении этих начал, полагал Миллер, состоит историческая задача России. В противоположность этому перед Россией стоит задача развить внутреннее понятие единства как свободного союза людей, в противоположность внешнему единству, выраженному в государственном насилии. Церковь как носитель внутреннего начала единства должна отказаться от любых «властолюбивых вожделений» и противопоставить принуждению свободу и любовь. Римская же стихия проникнута миродержавными притязаниями.
Русская история знает не мало деятелей, дух которых призывает реанимировать Соловьев. «Кровавая практика византизма» воплотилась в борьбе Иосифа Волоцкого и архиепископа Геннадия с новгородскими еретиками. Некоторые питомцы Киево-Могилянской школы были открытыми проводниками «западноримских» начал в России, а идеи Семиона Полоцкого были явно пропитаны «папежским духом». «Не ясно ли, – заключал Миллер, – что мы уже призывали к себе духовных варягов не только через Византию, но даже и прямо из Ватикана. Этот прямой призыв совершился на самом рубеже древней и новой Руси и в силу его, как раз перед петровской реформой, мы стали наконец причастны, хотя и в сравнительно слабой степени, таким мерзостям западной жизни, как кровавое истребление предполагаемых колдунов и ведьм и св. инквизиции»[37]. Соловьев «язычествует» и «западничествует», т. е. идет по стопам Иосифа Волоцкого. Миллер прямо проводит аналогию между Соловьевым и Иосифом Волоцким, полагая, что волоколамский игумен пережил подобную же духовную эволюцию. Римские начало, таким образом, – это не будущее России, которое следует приближать, а ее прошлое, которое следует изживать.
Однако Россия познала и истинное лицо христианства, которое Миллер связывает с «Кирилло-Мефодиевской проповедью». Русская церковь долго сохраняла «древнее церковное начало веротерпимости», которое «было заглушено только при усиленном приливе влияний римских»[38]. Христианская (в противоположность римской) традиция была представлена на Руси заволжскими старцами, церковными братствами юго-западной Руси, Владимиром Мономахом, Владимиром Святославович, Александром II. Реформы царя освободителя и, прежде всего, отмену крепостного права, Миллер считал примером подлинной христианской политики. Более того, сам Соловьев в обращении к императору помиловать убийц Александра II «высказался не как философ, а как верующий человек».
В своих призывах к водворению Рима в России Соловьев «кощунствует», производя власть пап и императоров от самого Христа, «совершает подмен языческого Рима Христом», полагая, что церковь не может обойтись без «мирского единовластия», проповедует союз церкви с государством «в юстиниановском смысле». Согласно Миллеру, такой союз прямо вредит церкви, обольщает ее и отвращает от Христа. Власть, данная церкви, приводит к ее обмирщению и замене христианских идеалов языческими. Разделение церкви, которое хочет преодолеть Соловьев, было вызвано стремлением материализовать духовную силу христианства в «двух видах единоначалия», унаследованных от языческого мира, – папе и императоре. Однако их союз, проповедуемый Соловьевым, только закрепляет этот исторический раскол, а не преодолевает его.
В чем же причина заблуждений Соловьева? Почему он «увлекается какой-то злой силой по пути Чаадаева»? Миллер усматривает ее в неверии Соловьева в «духовное, братское единство свободной вселенской общины». В этом состоит, пожалуй, главный упрек Миллера Соловьеву, упрек, не понятый и И. С. Аксаковым[39]. Миллер полагает, что ошибки Соловьева проистекают из неверного истолкования принципа соборности; философ не видит значения участия в делах веры мирян – «единодушного признания» соборных решений «народом церковным». Соловьев «соблазнился» юридической силой соборного решения, переходящего в закон и вытекающую из него власть. Для Соловьева «собор» – это власть и право, в то время как по учению А. С. Хомякова, к которому отсылает Миллер, «собор» – это «голос», «общее мнение», выражающее духовное и нравственное единство. Так – в идеале, хотя в реальной истории церкви, конечно, имело место и принуждающее вмешательство императоров. Противопоставление Соловьева А. С. Хомякову проходит через всю статью Миллера. Он судит Соловьева по мерке А. С. Хомякова, чтобы показать насколько Соловьев превратно толкует не только славянофильство, но и само христианство. Объединение церквей – это соборное дело, а не союз папы с императором. «Только на почве древней соборной церкви, чуждой и папства, и цезареопапства, может произойти настоящее соединение церквей», – заключает Миллер[40].
Из этого следует и искаженное представление об отношении церкви к государству. Соловьев проповедует церковное значение христианского царя и его власти, в то время как Миллер настаивает на том, что значение христианского царя состоит не в распространении его власти на церковь, а в заботе о христианском народе. «Настоящие христианские отношения царя к церкви – отношения сыновние: царь в ее глазах тот старший сын, на которого возлагает она усиленные заботы о благополучии прочих своих детей»[41]. Русская история знает много примеров истинного союза церкви с государством, когда государи отказывались казнить еретиков, заступались за крестьян, допуская право жалоб со стороны крестьян на своих помещиков (право, отмененное лишь просвещенной императрицей Екатериной II), когда, наконец, заставили господ отказаться от крепостного рабства. «Вместо того, чтобы указывать нашей церкви на политические примеры Гостомысла и Петра I-го, – советует Миллер Соловьеву, – нужно только оживить в ней ее же собственный древний дух – дух, противный развившемуся в ней от византийско-римской прививки “презлому осифлянству” (как выразился князь Курбский)»[42].
И. С. Аксаков, отказавшись принять статью, не воспринял главную идею Миллера о том, что союз с Римом, к которому призывает Соловьев, уже имел место в русской истории и последствия этого сближения являются, очевидно, негативными. Полнее всего римские начала были усвоены в Византии. Этим Миллер объясняет многие темные стороны византийской истории, которые И. С. Аксаков посчитал очернением церкви. Для Миллера же церковное прославление некоторых византийских императоров – это следствие компромисса, на который шла церковь с властью. Однако в делах веры не должно быть компромиссов. Римское (=византийское) исповедание христианства и есть компромисс против полноты христианской любви и смирения. Отказ И. С. Аксакова выглядит тем более странным, что Миллер лишь переносит славянофильское, идущее от К.С. Аксакова, противопоставление двух коренных начал в истории России – Земли и Государства, отношения между которыми он характеризовал как взаимную доверительность, «взаимное невмешательство» или «обоюдное искреннее желание пользы» – на Государство и Церковь. Земству принадлежит вся совокупность не только материальной и общественной, но и духовно-нравственной жизни, полнее всего представленной в церкви. От себя Миллер лишь привносит в эту схему убеждение, что церковь способна одухотворять светскую власть нравственными идеалами христианства, в то время как Соловьев предлагает обременить церковь языческой силой земного господства.
Если считать статью Миллера критикой взглядов Соловьева или рецензией, то она, действительно, выглядит не удачной. Она перегружена цитатами и фактами, за которыми почти не слышен авторский голос. Миллер не выискивает противоречия у своего оппонента и не оспаривает напрямую его доводы. Он лишь ссылается на авторитетное мнение (А. С. Хомякова), к которому, полагает, прислушается Соловьев, и приводит многочисленные факты, почти их не комментируя. Факты эти должны говорить сами за себя. Статья Миллера не рецензия и не критический разбор. Она, скорее, принадлежит к жанру обличительной литературы, отчасти, – к поучению. Он приводит свидетельства (факты и мнения), которые должны не опровергнуть Соловьева, а вразумить его.
Статья Миллера показывает, что же больше всего не устраивало университетских славянофилов в учении Соловьева – не соответствие фактам (историческим, бытовым, культурным и т. п.). В построениях Соловьева они видели лишь, по словам Миллера, «отвлеченные умствования». В этом отношении с Соловьевым, действительно, было трудно спорить, если его рассуждения не опираются на факты или даже им противоречат. Нельзя сказать, чтобы Бестужев-Рюмин, Ламанский и Миллер были сторонниками позитивизма (впрочем, не без оговорок[43]), против которого столь блестяще выступил Соловьев. Нет, они все же были наследниками романтического славянофильства, не без некоторой доли идеализации смотрели на славян и русскую историю и т. п. Однако в отличие от Соловьева, они были кабинетными учеными, тяготели к историографическим и даже архивным разысканиям. Ламанский, например, считал главной своей заслугой не концепцию «трех миров», а публикацию объемного сборника архивных документов «Государственные тайны Венеции» (1884). У них не было вкуса к пророчествованиям и тяги к схематизации, которыми обладал Соловьев. Даже в своих публицистических работах, допускавших резкие высказывания и крайние точки зрения, они не выходили за пределы известных им фактов. Максимализм дозволялся в оценках и характеристиках, но не в фактах. В работах, требующих масштабных обобщений (например, в статье Бестужева-Рюмина «Чему учит русская история» или трактате Ламанского «Три мира Азийско-Европейского материка») они лишь выявляли определенные тенденции, на основе которых судили о прошлом и рисовали образ будущего, но не предсказывали судьбу. Были, конечно, и более содержательные разногласия. Так, например, Ламанский, в отличие от ранних славянофилов (того же А. С. Хомякова) уже не рассматривал религию в качестве первоосновной исторической силы. Гораздо большее значение в формировании цивилизации и в историческом развитии он отдавал языку, а Бестужев-Рюмин, полагал, что основу истории составляет не государство, а народ и культура. Они мыслили в другом масштабе (безусловно, «меньшем», чем у Соловьева) и в других категориях. Однако это не мешало им признавать масштаб самой личности Соловьева и неординарность его философии.
Примечания
Впервые опубликовано в: Малинов А. В. «Он может и должен принести большую пользу»: В. С. Соловьев и петербургские славянофилы // Соловьевские исследования. 2017. № 2 (54). С. 110–128.
[1] Лосев А. Ф. Владимир Соловьев и его время. М.: Молодая гвардия, 2000.С. 256
[2] Величко В. Л. Владимир Соловьев. Жизнь и творения // Вл. С. Соловьев: pro et contra / Сост., вступ. ст. и примеч. В. Ф. Бойкова. СПб.: РХГИ, 2000. С. 287.
[3] Мочульский К. В. Владимир Соловьев. Жизнь и учение // Вл. С. Соловьев: pro et contra. / Сост., вступ. ст. и примеч. В. Ф. Бойкова. СПб.: РХГИ, 2000. С. 688.
[4] См.: Трубецкой Е. Н. Миросозерцание Вл. С. Соловьева. В 2 т. Т. 1. М.: Путь: изд. автора, 1913; Радлов Э. Л. Владимир Соловьев. Жизнь и учение. СПб.: Издательство «Образование», 1913; Балуев Б. В. Споры о судьбах России: Н. Я. Данилевский и его книга «Россия и Европа». Тверь, 2001; Назарова Ю. Н., Возилов В. В. «Россия и Европа» в споре Н. Я. Данилевского и В. С. Соловьева // Соловьевские исследования. 2002. № 2. С. 74–92; Дианов Д. Н. Вл. Соловев и К. Леонтьев: к проблеме идейных взаимоотношений // Соловьевские исследования. 2008. № 4. С. 30–33; Луконин Д. Е. «Каждую русскую нотку ценить на вес золота…»: страницы спора о книге Н. Я. Данилевского // Известия Саратовского университета. 2010. Т. 10. Серия История. Международные отношения. Выпуск 1. С. 31–36; Фатеев В. А. В Страхове я вижу миниатюру современной России: полемические заметки об отношения Н. Н. Страхова и Вл. С. Соловьева // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2010. Т. 11. № 1. С. 111–128; Кантор В. К. Владимир Соловьев о соблазне национализма // Соловьевские исследования. 2010. № 4. С. 35–47; Фетисенко О. Л. «Гептастилисты»: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики: (Идеи русского консерватизма в литературно-художественных и публицистических практиках второй половины XIX – первой четверти XX века). СПб.: Издательство «Пушкинский Дом», 2012; Варакин С. В. Философские основания «политической культуры» на русской почве (В. С. Соловьев против Н. Я. Данилевского) // Известия Волгоградского государственного технического университета. 2014. Т. 19. № 24 (151) С. 55–58; Мотовникова Е. Н. Н. Н. Страхов – В. С. Соловьев: к основаниям полемики 1888–1894 г. // Экономика. Общество. Человек. Материалы международной научно-практической конференции «Приоритетные направления в развитии современного общества: междисциплинарные исследования». Ч. 2. Традиции и современность: духовное наследие Владимира Соловьева / научн. ред. проф. Е. Н. Чижова. Белгород, 2014. С. 95–112; Мотовникова Е. Н. Эпистемологическая ассиметрия (контуры ссоры В. С. Соловьева и Н. Н. Страхова) // Теория и практика общественного развития. 2015. № 12. С. 329–332; Мотин С. В. «…Вероятно, у меня найдется для Вас что-нибудь менее спорное» (к истории взаимоотношений И. С. Аксакова и В. С. Соловьева) // Соловьевские исследования. 2014. № 2. С. 6–33.
[5] См.: Смирнов Марк. Владимир Соловьев и Бестужев-Рюмин: разрыв с консерваторами // Соловьевские исследования. 2005. № 2. С. 25–44.
[6] К. Н. Бестужев-Рюмин (из воспоминаний бывшей слушательницы). СПб., 1897. С. 12.
[7] Лукьянов С. М. О Владимире Соловьеве в его молодые годы. Материалы к биографии. Книга первая. Пг., 1916. С. 415–416
[8] Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН (РО ИРЛИ РАН). Ф. Р I. Оп. 2. № 254. Л. 43.
[9] Там же. Л. 129.
[10] Там же. Л. 32.
[11] РО ИРЛИ РАН. Ф. 3. Оп. 4. № 47.
[12] РО ИРЛИ РАН. Ф. Р I. Оп. 2. № 254. Л. 37.
[13] Шмурло Е. Ф. Очерк жизни и научной деятельности Константина Николаевича Бестужева-Рюмина. 1829–1897. Юрьев: Тип. К. Маттисена, 1899. С. 233.
[14] Там же.
[15] Там же. С. 235.
[16] Там же.
[17] Там же. С. 233–234.
[18] Там же. С. 234.
[19] Там же. С. 238–239.
[20] Лукьянов С. М. О Владимире Соловьеве в его молодые годы. С. 400, 436.
[21] Там же. С. 400.
[22] Санкт-Петербургский филиал архива РАН (СПбФ АРАН). Ф. 35. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 150.
[23] Там же. Л. 181, 181об.
[24] СПбФ АРАН. Ф. 35. Оп.1. Ед. хр. 1606. Л. 22об.
[25] Там же. Л. 202об.
[26] СПбФ АРАН. Ф. 35. Оп. 1. Ед. хр. 1135. Л. 35–35об.
[27] См.: Бестужев-Рюмин К. Н. Славянофильское учение и его судьбы в русской литературе. Статья первая // Отечественные записки. 1862. № 2. Т. CXL. С. 678–719; Бестужев-Рюмин К. Н. Славянофильское учение и его судьбы в русской литературе. Статья вторая // Отечественные записки. 1862. № 3. Т. CXLI. С. 26–58; Бестужев-Рюмин К. Н. Славянофильское учение и его судьбы в русской литературе. Статья третья и последняя // Отечественные записки. 1862. № 5. Т. CXLII. С. 1–23; Миллер О. Ф. Основы учения первоначальных славянофилов // Русская мысль. 1880. Кн. I. С. 77–102; Миллер О. Ф. Основы учения первоначальных славянофилов // Русская мысль. 1880. Кн. III. С. 1–44.
[28] Соловьев В. С. Славянский вопрос // Известия Санкт-Петербургского славянского благотворительного общества. 1886. № 6. С. 1–13.
[29] См.: Письмо И. С. Аксакова О. Ф. Миллеру от 5 июля 1884 г. о статье того «Церковь и византийство» (Публикация Д. А. Бадаляна) // Христианство и русская литература: Сборник статей / отв. ред. В. А. Котельников и О. Л. Фетисенко. СПб.: Издательство «Пушкинский Дом», 2017. С. 526–546.
[30] Там же. С. 535.
[31] Там же. С. 536.
[32] Там же. С. 532.
[33] Миллер О. Ф. Церковь и византийство // Киевская старина. Ежемесячный исторический журнал. 1884. Т. X. Ноябрь. С. 425.
[34] Там же. С. 430.
[35] Там же. С. 431–432.
[36] Там же. С. 430.
[37] Там же. С. 437.
[38] Там же.
[39] Впрочем, И. С. Аксаков читал первоначальный вариант статьи Миллера, в котором, возможно, были расставлены иные смысловые акценты.
[40] Миллер О. Ф. Церковь и византийство. С. 438.
[41] Там же. С. 443–444.
[42] Там же. С. 438.
[43] К. Н. Бестужеву-Рюмину, например, принадлежит первый русский перевод «Истории цивилизации в Англии» Г. Т. Бокля.
В заставке использован графический портрет Владимира Соловьева работы Ю. В. Иванова, 1987
© Алексей Малинов, 2023
© НП «Русская культура», 2023