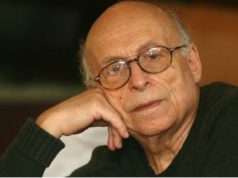«…текут мои слова
о жизни и о смерти,
но о любви сперва».
Из стихотворного наследия Льва Друскина
 У Владимира Набокова есть стихотворение, первую пронзительную строчку которого я повторяю все 35 лет, живя на Западе: «Отвяжись, я тебя умоляю».
У Владимира Набокова есть стихотворение, первую пронзительную строчку которого я повторяю все 35 лет, живя на Западе: «Отвяжись, я тебя умоляю».
Мне интересно всё, что происходит в России, слушаю ли я музыку, смотрю ли фильмы, читаю ли новые книги, открываю ли ежедневные новости. Окружающие постоянно удивляются: да что тебе? А мне важно многое, потому что – своё.
В прогулках по Интернету обнаружила Ваш, Дмитрий Александрович, портал. Прочитала все выпуски альманаха и подумала, а не послать ли вам стихи Льва Друскина, ленинградского поэта, порядком подзабытого в сегодняшнее сумбурное время?
Озабоченные своими делами люди, возможно, душой и сегодня нуждаются в лирике, в тёплом искреннем слове? И подготовила подборку из разных сборников, которых дома было семь, и пять здесь, в Тюбингене, переведённых на немецкий.
Почему русский поэт оказался в Германии, мне не хочется говорить. Это рассказано им самим в «Спасённой книге». Она выходила в России дважды, но предварительно в Англии и Германии. «Спасённая», потому что когда за нею пришли, рукопись была уже в безопасности.
Мы прожили вместе ровно тридцать лет и три года счастливо, несмотря на болезни и обстоятельства. У нас было много друзей, муж обрастал ими везде – дома, в Австрии, в Италии, в Германии. Об этом есть в стихах.
Буду очень рада, если они понравятся читателям портала «Пространство и время русской культуры».

Лидия Друскина
5 января 2020 года
Тюбинген, Германия

***
Хотите я вам нарисую
Две лодки и два корабля?
И землю, с которой простился,
Пускай уплывает земля.
Пускай уплывает, не жалко.
Зачем она машет плащом?
Полжизни на ней протрубили,
Полжизни осталось ещё.
Уходит она в повороте,
Который не преодолеть.
Пускай уплывает, не жалко.
Ах, лучше бы мне умереть!
***
Четырнадцатого числа,
Когда июнь уже в разгаре,
Я был не то чтобы в ударе,
Но в гору шли мои дела.
И я читал стихи лесам,
Ко мне прислушивались реки
И Вию поднимали веки,
Чтоб он увидел, кто писал.
Я был не человек почти –
И боль смешна, и страх неведом.
И друг ходил за мною следом
И говорил: «ещё прочти!»
И я лишь к ночи ощутил,
Что я не Бог, а узник пленный,
Миг вечности, микрон вселенной,
Хотя я всю её вместил.
***
Стою смешной и полуголый,
Почти не прячась, под сосной.
А дождик редкий и весёлый –
Российский дождик ледяной…
Иглоукалыванье это
Весьма полезно для поэта,
Особенно когда поэт
(Смотри – он здесь ещё, он рядом!)
Запоминает грустным взглядом
Всё то, что видит напослед.
Он смотрит долго, неотрывно
На этот холм, простой и дивный,
На кипень белую берёз,
И на досчатый дом, который
Зовёт его, раздвинув шторы,
Оcипнув от внезапных слёз.

ПОЭТ
Был приход поэта странен.
Он вошёл, смиряя шаг,
Пряча крылья за плечами
Под потрёпанный пиджак.
Он сидел – обыкновенный
(Я-то знал, кто он такой!),
Лишь мелькал огонь мгновенный,
Как зарница над рекой.
Зарывались мысли наши
В слой словесной шелухи.
И тогда сказал я: «Саша,
Почитали бы стихи».
В запрокинутом затылке
И в широком жесте – взрыв,
Дух рванулся из бутылки,
Заклинанье подхватив.
Он стоял в красе и силе,
И знаком, и незнаком,
И тревожно бились крылья
Под высоким потолком.
***
Нет, никогда календарю
Я не скажу: «Благодарю».
Часы запру, будильник спрячу,
Куплю билет втридорога,
Уеду к чёрту на рога
И брошусь в травы, и заплачу.
Спаси, лесная тишина!
Пусть заслонит меня сосна
Своею смуглою спиною.
И вдруг услышу я, привстав, –
Неумолимо, как состав,
Грохочет время надо мною.
***
Нет, никогда календарю
Я не скажу: «Благодарю».
Часы запру, будильник спрячу,
Куплю билет втридорога,
Уеду к чёрту на рога
И брошусь в травы, и заплачу.
Спаси, лесная тишина!
Пусть заслонит меня сосна
Своею смуглою спиною.
И вдруг услышу я, привстав, –
Неумолимо, как состав,
Грохочет время надо мною.
***
Идут солдаты и шаг чеканят…
Меня убьют, а тебя лишь ранят.
Лесов молчанье, полей аккорды –
Ты будешь живой, а я буду мёртвый.
Ты будешь лежать в санитарной палатке,
А я в земле, где другие порядки.
Ты губы кусаешь, ты бредишь: «Нас двое!»
А я прорастаю травою, травою –
Зелёным шуршаньем, бальзамом нежданным,
Который так сладко прикладывать к ранам.

***
Мише Петрову
Милый друг, обрывается нить.
Вот и не о чем нам говорить.
Лишь глядим друг на друга в печали.
Жалок дружбы последний урок –
Не находим ни мыслей, ни слов,
Даже души у нас замолчали.
Но ведь есть (хоть надежда слаба)
Где-то там золотая труба
И архангел к ней губы приложит.
И тогда мы сойдёмся опять
На земле или где? Не понять
И узнаем друг друга, быть может.
***
Алику Городницкому
А парень говорил, колено обхватив,
Что есть один мотив, что есть один мотив.
И пробовал его смущённо напевать,
И тут же забывал, и пробовал опять.
И снова обрывал, и пальцами хрустел,
И всё же напевал, и всё-таки свистел.
Притоптывал ногой и барды всех времён,
Притоптывая в такт, стояли с двух сторон.
И я твердил им в лад, колено обхватив,
Что есть один мотив, что есть один мотив…
***
Сегодня, в колокольный день Шекспира,
Я рано лёг. Какая-то забота
Меня давила. Три-четыре строчки
Я повторял и всё не мог понять:
Удача это или неудача?
И вот, когда мохнатый, тёплый сон
Меня накрыл, я грелся у камина
С резными львами, а над ним сушился
Мой югославский плащ за сорок восемь
Усердно заработанных рублей.
Дверь скрипнула, но я не оглянулся –
Я всей спиною понял, кто вошёл.
И молча мы сидели на скамье.
Не шевелясь, я видел краем глаза
Его большие умные ладони
И на камзоле винное пятно.
А из кармана смятые листочки
Торчали – ну совсем как у меня
Или у Саши Кушнера, хоть знал я,
Что это «Макбет» или «Много шуму
из ничего». И что-то в этом было
Щемящее, роднящее поэтов.
И снова те же три-четыре строчки,
Поднявшись, мне защекотали губы.
И я взглянул впервые. Он смотрел
С внимательным и добрым ожиданьем.
И стыдно стало мне. И я проснулся.
***
Когда на лес упала
Июльская гроза,
Я вдруг увидел Пана
Гуцульские глаза.
Во мгле кустов лежал он,
Внезапный, как ожог.
В одной руке держал он
Пастушеский рожок.
И, белая от гнева,
Затянутая в дым,
Над ним клубилась дева,
Обманутая им.
Я тоже выбегаю
Из дома в острый мрак,
Мне молния мигает,
А это – добрый знак.
И по звериной тверди
Текут мои слова
О жизни и о смерти,
Но о любви сперва.
***
Маршак сидит в халате и брюзжит.
Он судит снисходительно и строго.
Он понимает, что моя дорога
Наискосок, проклятая, лежит.
Он мне советы добрые даёт.
Вернусь домой и стул к столу поставлю.
Но ни одной строки не переправлю!
Господь судья, а что-то восстаёт.
А утром вновь по улицам седым
К нему приду я и напротив сяду,
И дивную английскую балладу
Он мне прочтёт, закутываясь в дым.
Так тетерев токует на снегу,
Закрыв глаза, один с поляной белой…
Прочтёт и скажет сухо: «Переделал?»
А я отвечу тихо: «Не могу».
Он переспросит каждую строку
И буркнет: «Как же! Вам не до советов!»
И на прозрачном томике сонетов
Напишет: «Моему ученику».

***
Ксеркс побеждён. Бьют персов. Тонет флот.
Чужая боль. Чужая неудача.
Я удаляюсь от дневных забот.
Проносят мимо раненых. Я плачу.
Сижу один. Обломки по воде
Плывут к столу и ранят мне колени.
И тонут корабли в кровавой пене,
В чужом несчастье и в моей беде.
И где мой дом – надежда и оплот?
И как мне жить? Я не могу иначе!
Ксеркс побеждён. Бьют персов, Тонет флот.
Проносят мимо раненых. Я плачу.
***
Девчонки длинноногие! Не мне
Гореть на вашем медленном огне
Нам щедрые дары приносит осень,
Мы гордые чужого не попросим.
Есть у меня мой стол и ульи книг,
К которым я, как пасечник приник,
И добрый пёс, и умная беседа,
И верный друг (я с ним сто лет знаком!),
И трубка с капитанским табаком,
Доставшаяся мне ещё от деда.
Давай же посидим перед дорогой,
Перебирая радости свои –
И свет, и тень, и на краю земли
Весёлый смех девчонки длинноногой.
ТЮБИНГЕН
Никогда не видать тебе, вьюга,
Этих красок цветущего юга.
Из-за правого, что ли, холма
Вырывается к небу дорога
И доводит до самого Бога,
Если только не сводит с ума.
И в душе моей, как говорится,
На рассвете такое творится,
Будто вправду я в Божьем огне
Будто впрямь у престола Господня,
Будто что-то случится сегодня –
То, что с детства обещано мне.
***
Семейные дела,
Шоссейные тревоги –
Подумать бы о Боге,
Да скорость не дала.
Поминки, торжества,
Мельканья, повороты,
Кружится голова,
Сбивается со счёта.
И бедная земля
В молниеносном мире
Вся, как полёт валькирий
Или полёт шмеля.
О нет, мы не хотим!
Нам ветер ненавистен!
Уже сухие листья
Летим, летим, летим.
Без смысла, без числа
Торопятся дороги…
Подумать бы о Боге,
Да скорость не дала.
Туманно впереди,
Теперь недолго – знаю.
Мучительно к груди
Я руку прижимаю.
Душа изнемогла,
Пора подбить итоги…
Подумать бы о Боге,
Да скорость не дала!

***
Умру? Ну что ж, умру. Не стану я цепляться
За свой последний вздох, за свой последний миг.
И встану я туда, где братья потеснятся –
Не человек уже, а книга среди книг.
Кто в комнату войдёт и снимет книгу с полки?
Кто сядет у стола, страницы шевеля?
Я рядом. Вот он – я. И надо ль верить в толки,
Что приняла мой прах немецкая земля?
Кто встретил голос мой? Кузнечики стрекочут,
В раскрытое окно летит медвяный дух…
А он поговорить со мной сегодня хочет –
И все мои слова он повторяет вслух…
ПАМЯТЬ
Проститутка в мятом платье,
Понимая, что к чему,
Говорит: «Пойдём, солдатик,
Я не дорого возьму» …
А в газетах сводки, сводки,
В сводках тонут все пути …
Вечер долгий, век короткий –
Отчего же не пойти?
И отдав мешок соседу:
«Присмотри-ка, дорогой!»
Он стучит за нею следом
Деревянною ногой.
Сорок первый, сорок первый,
Жизнь от смерти на вершок.
Я сижу, худой и нервный,
Под рукой – чужой мешок.
Фонари давно не светят,
Глухо прячутся дома.
Я один на целом свете –
Справа тьма и слева тьма.
Но твердит моя дорога,
Зарываясь в эту тьму:
«Поживи ещё не много,
Я недорого возьму».
ПЕСНЯ ПЕСНЕЙ
Грудь её была
Как улей на заре, как сад весенний.
Мы, мальчики робели, Ну а ей,
Мне кажется, не очень то хотелось,
Чтоб мы пред ней робели… И однажды…
Но тут внезапно началась война.
Теперь я знаю: каждая потеря
Невосполнима. Стоит растеряться,
И растеряешь многое – себя,
Судьбу, надежду… Да, теперь я знаю!
Лет через десять-двадцать я смогу
Похлопать по плечу Мафусаила.
Жизнь удалась. Окончен вкусный ужин.
Жена ушла, сказав: «Спокойной ночи!»
И я рисую внуку паровозик
И вспоминаю: грудь её была
Как улей на заре. Нет, не об этом.
Подумай лучше о другом, хотя бы,
Что грудь её была как сад весенний.
Я был дурной пчелой… И вот осталось:
Очки в футляр, ботинки к батареи…
И пусть нас мучат молодые сны.

***
А соседи говорят:
«Ваши спички не горят,
Ваша лампочка потухла,
Ваша курица протухла,
Ваша верная жена
Абсолютно неверна».
Я соседям отвечаю:
Мол, не лучше ль выпить чаю?
Я, мол, старый их сосед,
У меня претензий нет, –
Только детям их поганым
Стыдно шарить по карманам.
А за окнами Нева,
На Неву летит листва.
Осень, шпиль, решётка сада…
И не ты ль, моя отрада,
Золотую эту грусть
С детства знаешь наизусть?
ОСЕНЬ
Окончились проблемы и запинки,
Я лес читаю прямо с серединки,
Я наизнанку вывернул его.
Слова приходят самые простые –
Они лежат, как листья золотые
В день торжества и горя своего.
Я говорю: деревья облетают.
Нагие ветви небо расшатают,
Но в нём отвага юная жива.
Губами тронь бока его литые…
Слова лежат, как листья золотые –
Совсем обыкновенные слова.
Я жить хочу среди обыкновенных,
Таких скоропалительных и тленных,
Мешающихся с небом и листвой.
И может быть, без чинопочитанья,
Я их сведу в такие сочетанья…
А ты опять качаешь головой.
***
И вновь больничные палаты …
Прими лекарство, бинт сверни.
А Бог опять взимает плату
И пересчитывает дни.
Его всевидящее око,
Его бестрепетная длань
Нетерпеливо и жестоко
Перебирает нашу дань.
Ну что ж, кичись своей казною!
Мы не в обиде, мы в тоске.
Мы прячем руки за спиною,
Зажав монеты в кулаке.
Идёт беда по коридорам,
Сосед притих и спал с лица …
И этим Божеским поборам
Не видно доброго конца.

***
А мы прячемся в строке –
Ты в детстве, в самом уголке
Со мной вдвоём укройся.
Печенье, плавленый сырок.
Тебя к доске. Идёт урок.
Я подскажу – не бойся.
Не хмурься. Лучше о простом.
Не будь печальной. Под кустом
Лежит твоя скакалка.
Мы перепрыгнем в годы те
И улыбнёмся чистоте,
А мудрости не жалко.
Нас жизнь ломает, сатана,
И хочет нам воздать сполна,
И судьбами играет.
А мы уйдём в конец строки…
Стоит учитель у доски
И руки вытирает.
***
Когда я брёл в ночи обманной,
Вникая в тайны ремесла,
Мне неожиданно и странно
Тень Данте путь пересекла.
Уже миров нездешних житель
Земную он хранил беду.
Но дерзко я сказал: «Учитель,
Я сам не раз бывал в аду».
Он вздрогнул и исчез бесследно,
Ушёл в воздушную струю…
И только шёпот: «Бедный… бедный…
А был ли ты хоть раз в раю?»

«Как и всякий подлинный поэт, Друскин был скорее органом, переводившим на человеческий язык поэзию окружающего мира».
Виктор БЕСКРОВНЫХ.
«Русская мысль», 1 марта 1991 (№ 3868)
«Лев Друскин… подводит читателя к мысли о том, что главное в жизни человека – сохранность души».
«Новое русское слово»,
17 марта 1985
«Комната Друскиных была их жизненным пространством, а Лев Савельевич желал как поэт, как художник – ощущать жизнь во всем её объёме, в сочетании и противоборстве добра и зла, дурного и хорошего…».
Сергей ДОВЛАТОВ
«Может быть, мы и не говорили о справедливости, о гуманистических ценностях, о любви, но ясно было, насколько глубокое значение он придавал тому, что такое быть Человеком, и в обществе, и наедине с собой. Чем больше я узнавал о его жизни, тем больше уважал его и понимал, что это необыкновенный человек… Он написал в “Спасённой книге”: “Моя жизнь в известном смысле тоже документ эпохи”… В глубине его улыбающихся глаз видна была горечь, которая отразилась и в его стихах».
Чарльз ГИЛБЕРТ,
славист, Принстон, США
В тексте использованы рисунки Вадима Бродского к книге Льва Друскина «Совсем обыкновенные слова» (2020)
© Лидия Друскина, 2020
© Вадим Бродский, рисунки, 2020
© НП «Русская культура», 2020