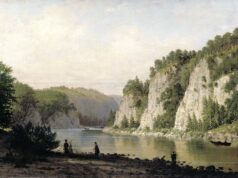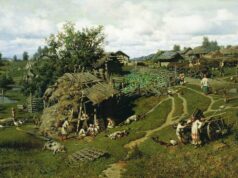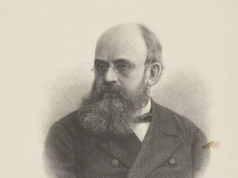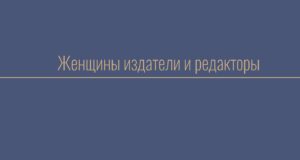Интерпретация идеи империи В. И. Ламанским (1833–1914) еще не становилась предметом специального рассмотрения. Он фактически оказался в тени других, более известных представителей позднего славянофильства, прежде всего Н. Я. Данилевского и К. Н. Леонтьева. Для современников Ламанский был создателем научной школы, вместе со И. И. Срезневским его считают основателем славистики в Петербургском университете. Преподавательская деятельность Ламанского в университете способствовала тому, что история славянских народов отделилась от славянской филологии и стала восприниматься как самостоятельная научная дисциплина. Сам Владимир Иванович считал себя в большей степени историком и политическим мыслителем, чем филологом, поэтому его основные труды следует отнести к философии истории, политической географии, историографии, а не славянской филологии. Примечательно, что в последние годы наследие Ламанского, как правило, привлекает историков и политологов, а не лингвистов. Наиболее востребованным оказался его поздний трактат «Три мира азийско-европейского материка» (1892), обобщающий идеи, которые он высказывал еще с середины 1860-х годов.
Один из сюжетов, которого Ламанский касался как в лекциях, так и в опубликованных работах, был посвящен империи и ее значению в судьбе европейских народов. Здесь сходились не только преподавательские, но и политические и исторические интересы ученого. Идея империи была одним из основных элементов византийского культурного и политического наследия, воспринятого в России. Принято считать, как утверждал еще К. Н. Леонтьев, что византийские начала самодержавия и православия составили цивилизационную основу «русского византизма». Отечественная историография неоднократно оспаривала это утверждение, указывая на то, что принцип единодержавия московские государи восприняли от своих монгольских владык. Иное дело – идея империи. Сами греки, как известно, именовали русских ромеями, т. е. римлянами, подразумевая под этим православный народ, имеющий свое государство. Падение Константинополя и разнообразные русские реакции на него закрепили убеждение в том, что Россия теперь является единственным православным государством, наследником Восточной римской империи. С этого времени идея империи стала основой как политического самосознания, так и внешнеполитической презентации России. При этом сам принцип империи, в отличие, например, от самодержавия, не получил широкого теоретического осмысления.
Идея империи не тождественна идеологии самодержавия, их необходимо различать. Последняя имела немало истолкователей и сторонников, в то время как идея империи во многом оставалась фигурой умолчания. Тем интереснее предложенный Ламанским опыт ее нового осмысления. Религиозное обоснование империи, принятое в Византии (мистическое восприятие государства, империя как икона Царства Божия), в европеизированном и секуляризирующемся русском обществе не могло получить широкого признания. Ламанский нашел новую форму выражения имперской идеи, соответствующую интеллектуальному уровню русского образованного общества XIX века. Он предложил прочтение империи как цивилизационного пространства, обусловленного географическими условиями, общностью языка, единством или близостью психологического типа населения, общностью исторической судьбы. В одном из писем И. С. Аксакову он признавался: «Предмет этот первостепенной важности, и мне сдается, что всеми моими книжными занятиями и живыми наблюдениями я приготовлен более многих других к его разъяснению. Теперь у меня пойдет более подробное и частное разъяснение смысла Восточной империи и христианского царства»[1]. Письмо не датировано, но можно предположить, что Ламанский писал его в пору работы над монографией «Видные деятели западно-славянской образованности в XV, XVI и XVII веках», которая не была завершена. В 1875 году он опубликовал лишь 170-страничный фрагмент этого исследования. В нем Ламанский полнее всего раскрывал свое понимание идеи империи и ее исторических воплощений. Он воспринимал империю не как тип власти или государственного устройства, а как цивилизационную форму. Основу философско-исторической и геополитической концепции Ламанского составило учение о трех цивилизационных мирах: романо-германском, греко-славянском и азиатском. Соглашаясь с И. С. Аксаковым, Ламанский полагал, что империя как цивилизационная форма может быть только одна. Все остальное, по его выражению – это «узурпация» империи.
Свою исследовательскую деятельность Ламанский начал с изучения имперского периода русской истории. Первые его самостоятельные работы были посвящены XVIII веку (архивные публикации и критическое осмысление политической и культурной европеизации). Уже здесь ученый ставил вопрос о том, насколько политическая модель империи, заимствованная на Западе, соответствует цивилизационной конфигурации России. Альтернативу этой версии империи он увидел в принципе Translatio Imperii, связывающем Россию с политической традицией и культурой Византии. Однако внимание последующих исследователей привлеки другие сюжеты из научного наследия В. И. Ламанского. Издание его работ в 2010 г. ситуацию не изменило, поскольку не были переизданы принципиальные тексты ученого («Видные деятели западно-славянской образованности в XV, XVI и XVII веках» (1875), предисловие к «Государственным тайнам Венеции» (1883) и др.), в которых как раз разрабатывалось учение о Translatio Imperii.
Идея империи
В работе «Видные деятели западно-славянской образованности…» он приводил свое понимание империи и тех смыслов, которые заложены в ее идее: «Эта империя – одна из величайших форм человеческого общежития, доступная почти бесконечному развитию и совершенствованию, сообразно с изменяющимися условиями места и времени. Эта форма, намеченная и переданная будущим векам; это великий плод пластического творчества Римского государственного и общежительного гения. Эта форма или категория, грубый и несовершенный чертеж, ибо в форме абсолютизма, единственно впрочем тогда возможного, по состоянию времени и общества, способа правления, – чертеж или остов великой мировой державы, обнимающей множество разнообразных племен и народов, связанных единством общей и высшей культуры, сознанием равенства всех перед законом и верховною властью, пользующихся широкими началами местного самоуправления. Это – целая система самых разнообразных форм общежития от самых мелких республик до больших княжеств и царств, понимающих пользу общего мира и взаимного согласия, и для сохранения его выгод, в виду общего и частного благоденствия, заключивших союз между собою и признавших единогласно верховную власть общего вождя этого союза. Такова в сущности идея Римской империи, как она была задумана Цезарем и Августом и довершена Диоклетианом и Константином»[2].
Империя, согласно Ламанскому, представляет собой наиболее крупную государственную форму – мировую державу – допускающую внутри себя различные варианты общественного устройства и преследующую цель установления мира внутри имперских границ. Империя, таким образом, – это пространство мира и порядка, который поддерживается за счет согласования интересов. Неизбежная для единого государства унификация должна учитывать интересы входящих в империю народов и регионов. Унификация не самоцель, а средство установления мира. Империя допускает различные типы правления, поскольку является формой цивилизационного развития и непосредственно не связана с каким-либо способом правления. Неверно отождествлять империю с самодержавием. Ее могущество определяется, прежде всего, смысловым превосходством, то есть трансляцией культуры, которая, в свою очередь, невозможна без крупного и сильного государственного образования. Государство выступает здесь лишь средством и условием культурного творчества.
Первым в истории примером такого пространства мира и порядка была Римская империя. «Она, – по словам Ламанского, – была последнею громадною услугою римского народа человечеству. Он указал на возможность и необходимость великих мировых держав, в пределах которых миллионы людей разного происхождения сообща могут трудиться для частного и общего благосостояния, не истребляя друг друга в войнах из-за мелкой зависти, пошлого самохвальства и ограниченного самодовольства узкого патриотизма, постоянного спутника малых государств и народов»[3]. Римская империя скреплялась не только единством законов, но и языком, и религией. В империи новая цивилизация обрела свои политические очертания, а в христианстве – религиозные. Империя сыграла не меньшую роль для вызревания христианства, чем иудаизм. Перенесение столицы на восток привело к тому, что греческий язык вытеснил латинский в качестве средства государственного и дипломатического общения, а также основы высшей культуры. Объединяющей религией становится христианство. И хотя происходят достаточно драматичные события – западные провинции империи подвергаются завоевыванию германскими племенами, а в восточные провинции вторгаются славяне, – никто не ставит под сомнение авторитет империи. «За немногими исключениями ни германцы, ни славяне не помышляют о разрушении империи. Напротив, они большею частью проникнуты высоким уважением к ее верховному главе, государственным учреждениям и образованности»[4]. В лекциях «Введение в славяноведение» Ламанский уточнял, что «восточные христианские народы смотрели на Римскую империю, как на единое вечное государство, имеющее цель обнять все народы и племена христианские, а в императоре видели Божьего помазанника и избранника, источника права и милости, защитника невинных и угнетенных, верховного главу всего христианского или, что было одно и то же, Римского мира»[5]. Пластичность империи, разделяющей государственные и религиозные сферы, позволяет интегрировать в цивилизационное пространство различные народы. Исторический опыт Римской империи показывает, что люди разных вероисповеданий и философских воззрений равно могут быть хорошими гражданами государства и демонстрирует необходимость уважительного отношения к представителям разных национальностей[6]. По контрасту с этим показательно, что одной из главных причин падения Восточной римской империи стала возобладавшая на исходе ее исторического бытия национальная нетерпимость греков, их нескрываемое презрение к варварам.
Христианство и империя
Восточная римская империя, удержавшаяся после нашествия варваров и сохранившая римские государственные начала, просуществовала более тысячи лет. Однако она существенно отличалась от той государственной формы, наследницей которой выступала, поскольку была империей христианской. Она продолжала существовать до тех пор, пока сохраняла верность универсальному смыслу христианства. «Устраняясь от прямой политической пропаганды и агитации, – писал Ламанский о христианах, – помышляя о строении внутреннего человека, о спасении души, о царстве Божием, они произвели тем не менее один из величайших политических переворотов, известных всемирной истории. Они пересоздали коренные основы важнейших учреждений величайшей мировой державы и тем помогли будущим поколениям усвоить и сохранить для всех грядущих времен как строй Римской империи, так и единственно им сбереженную от гибели древнюю цивилизацию»[7]. От Древнего Рима христианская империя отличалась «подъемом духа». В период раннего христианства или, как писал И. В. Киреевский, «святоотеческой традиции», сформировалась особая образованность и были сформулированы задачи христианских правителей. Многие достижения европейской цивилизации и ее гуманистические основания уходят корнями в этот святоотеческий период. «Чистотою души своей, воспитанной благодатью веры и суровыми подвигами самоотречения, – указывал Ламанский, – они доходят до понимания самых высоких истин и прямо высказывают их, не стесняясь никакими мирскими соображениями. Да, в этом отношении несказанно громадное значение христианства далеко не вполне выяснено историческою наукою. Смело можно утверждать, что беспристрастная история ново-европейской цивилизации отымет со временем много чести и славы новизны и первенства разных возвышенных мыслей и подвигов от новых народов романо-германских. Она правдиво укажет, что много высокого и возвышенного в теории и практике, чем гордится 18 и 19 стол., как исключительно своими мыслями и подвигами, было высказано и совершено еще в Римской империи III, IV веков»[8].
В христианской империи сложился особый тип правителя, для которого власть и мирская сила не могут заменить веру и правду. Сила государства, не утрачивающего способности карать и наказывать, проявляется в милосердии и человеколюбии. Только сильный, тем более обладающий репрессивными средствами, способен прощать и миловать. В этом проявляется моральное превосходство христианской империи. Ламанский описывал идеал христианского правителя следующим образом: «Обуздание страстей, гнева, постоянное памятование о Боге и подражание Ему, особенно его милосердию и человеколюбию – вот нравственные обязанности царя христианского. Сила царей не в множестве военных и морских сил, не в городских стенах и укреплениях, а в помощи и милости Божьей. Господь ставит и низлагает царей. Он дал им меч не действовать, но угрожать. Он хранит достойных царского звания. Истинный царь не страхом и насилием, а любовью и кротостью правит своими подданными. <…> Настоящий царь отличается от тирана»[9]. Покорность такому правителю – богоугодное дело. «Высшим властям надлежит повиноваться во всем, что не препятствует исполнению Божьих заповедей»[10].
Из такого идеала христианского владыки вытекало и «русское историческое понятие царя». В рукописи «Русское общество перед восточным вопросом» Ламанский раскрывал это представление о правителе: «Результат усилий и трудов целых веков и поколений не одного русского народа, а всего греко-славянского мира, оно вмещает в себя несколько различных, одно другую дополняющих и определяющих исторических идей. Тут прежде всего выступает идея римская. <…> Это идея верховной власти великой мировой державы; идея превознесенного над всеми классами, сословиями и лицами высшего представления ее единства, блюстителя закона, оберегателя тишины и мира»[11]. Как правитель, так и христианская империя в целом призваны привести к спасению христианский народ, а для этого они должны оберегать и защищать его, создавать условия не только для материального, но и, прежде всего, для духовного развития людей. Славянофилы выводили из этого принципа свое понимание отношений народа (земли) и государства: взаимное невмешательство, взаимная поддержка и обоюдная польза. Ламанский, разделяя аксаковские определения, рассматривал их в контексте того противостояния, которое сложилось между цивилизационными мирами. Если государство призвано обеспечить в первую очередь внешнюю защиту и оборону народа, создать условия для его мирного развития, то христианская империя должна гарантировать безопасность и поддерживать возможность для самобытного развития целого цивилизационного мира – греко-славянского, или Среднего мира. «Она, – замечал Ламанский об империи, – имела своим призванием сообщать внешнее представительство восточно-христианскому, православному миру, оберегать и охранять его от вторжений и нападений со стороны романо-германского Запада и азиатского Востока»[12]. Можно сказать, что империя полнее всего приближалась к идеалу вселенской христианской общины, умаленной в государственных формах, о которой писал К. С. Аксаков.
Узурпация империи на Западе
Христианская империя долгое время продолжала существовать на Востоке (речь идет о христианском Востоке, т. е. о части Европы, не вошедшей в государство Карла Великого и в те политические образования, которые сложились на ее обломках). Ее наследниками выступили народы греко-славянского мира, в первую очередь Россия. Даже Турция в определенный период своего развития выполняла свойственную восточной империи роль защиты народов Среднего мира от притязаний романо-германского Запада, пока эта роль окончательно не перешла к окрепнувшей России. Однако на историческое и политическое наследие империи стали претендовать и западноевропейские нации. Центростремительные силы на Западе подпитывались не только преданиями империи и грезами о вечном царстве и земном могуществе, но и известным этнографическим родством европейских народов и христианскими началами европейской культуры. В политическом отношении идея империи, воспринятая на западе Европы, а затем перенесенная в Северную Америку, восходит не к христианской империи Востока, а к языческой империи Древнего Рима. «Соединенные Штаты, – писал Ламанский, – есть продолжение Римской империи, так как они в своей государственной жизни руководятся принципами, выработанными римским народом, т. е. что все могут жить при полном равенстве, личной безопасности, полной свободе и т. п. В Европе эта идея живет и осуществляется, начиная от Карла Великого до Наполеона I с разными перерывами»[13]. Идея империи в Европе, прежде чем она была перенесена в Новый свет, прошла сложную историческую эволюцию. Ламанский пишет о нескольких исторических опытах «подражания» Римской империи в Европе. Первой попыткой ее реанимации была империя франков при Карле Великом. В Средние века «империя имеет своим базисом Германию». В этот период мы видим борьбу пап с германскими императорами, стремление пап подчинить себе империю. В Новое время при Карле V «базис империи фактически переходит в Испанию»[14], а со времени Ришелье и Людовика XIV Франция пытается «составить» империю. Этот процесс завершает Наполеон I.
Однако полностью империя в Европе никогда не была воплощена. Ее реализация встречала сильное сопротивление, поскольку Европа всегда была разделена на примерно равносильные части: германскую и романскую, католическую и протестантскую, северную и южную, борьба между которыми приводила к тому, что одна из сторон вынужденно выступала противником империи. «И вот, когда на Западе развилась наука, – пояснял Ламанский, – стали заниматься изучением политической истории, то, выходя их фактов своей собственной истории, ученые пришли к теории политического равновесия, которая гласит, что универсальные монархии невозможны <…>. Понятно, что это учение не есть общечеловеческое, не последнее слово истины, оно условно, применимо только к известным местностям, на почве которых оно родилось <…>. Теория эта верна по отношению к З<ападной> Европе, где под влиянием разных условий образовалось несколько равных, самостоятельных государств, но не применима к Римской империи, Китаю, Северо-Американским Соединенным Штатам, к России»[15]. От невозможности реализации империи европейцы пришли к выводу и о невозможности единого языка. Между языками европейских народов, отмечал Ламанский, продолжается борьба за доминирование, хотя исход этой борьбы предрешен: всемирное значение приобретет английский язык, а центр западного мира переместится в Северную Америку.
Попытки Запада возродить империю Ламанский считает узурпацией, хотя они предпринимались неоднократно. Восстановление империи на Западе, по его словам, «является естественным плодом скрещения троякого рода основных исторических элементов новой Европы – Римского папства, стародавних национальных традиций Рима и Италии и народных стремлений и исторических условий быта германцев»[16]. Давняя историческая вражда греков и римлян была усилена религиозной нетерпимостью – следствием «религиозного энтузиазма Семитического характера». Германские народы переняли эстафету этой вражды. Племенная рознь привела к церковному расколу сначала между Западом и Востоком, а потом и внутри Запада. «Церковный разрыв Востока и Запада (IX–XI века) завершил и увенчал собою то разделение их, которое открылось венчанием Карла В<еликого> в Риме и торжественным провозглашением Запада о перенесении Римской империи от греков к франкам», – заключал Ламанский[17]. Вражда и религиозная нетерпимость распространились и на другие народы Среднего мира, прежде всего, на славян. «С образованием империи Карла В<еликого> и с отделением Римской церкви произошло полное соприкосновение римского и германского элементов, и твердо установилось единство романо-германских воззрений, религиозных и политических, на греков и славян, как на схизматиков, еретиков и варваров, которые должны быть покорны духовной власти римского епископа и мечу римско-германского императора»[18]. Однако идеология и политическая практика романо-германских народов полностью противоречат тому идеалу христианской империи, который был провозглашен, хотя и не воплощен на христианском Востоке, поэтому Ламанский считает, что в отношении Запада можно говорить об узурпации или фикции империи, а не о ее реализации.
Идея восстановления Римской империи на Западе, вызвала борьбу за первенство в самой Европе. На политическое и духовное наследие империи, оправдывающее претензии на мировое доминирование, претендовали разные народы. Так, с конца XVIII в. Англия сделалась «действительною и законною преемницею Римской империи в новом романо-германском человечестве»[19]. В XIX веке Европа, находящаяся на пике своего колониального могущества, и еще, казалось, не исчерпавшая потенциала внешней экспансии, столкнулась с двумя конкурентами, также претендующими на универсальность своего исторического пути: с Россией и Североамериканскими штатами. В самой Европе это привело к осознанию необходимости политического объединения и цивилизационной консолидации. По словам Ламанского, Европа «действительно нуждается в известном внешнем единстве, сама чувствует потребность общего мира и внутреннего согласия»[20]. Имперский проект мог бы привнести в Европу долгожданный мир и успокоение. «Еще эта фикция, – писал он об идее империи, – не истребилась в умах народов Европы (Наполеон I, в новейшее время Англия), как в виду образования и возрастания двух громадных держав, великой греко-славянской империи на востоке и англо-саксонской республики на западе, возникает и развивается в Европе новое учение об образовании европейской федерации, постоянного европейского союза для борьбы и противовеса России и Америки»[21]. Неизбежность столкновения двух цивилизационных миров – европейского и греко-славянского – приведет к мировой войне, причины и ход которой Ламанский описывал еще в своих университетских лекциях 1870-х годов и в трактате «Три мира Азийско-Европейского материка» (1892).
Цивилизационный антагонизм романо-германского и греко-славянского миров, уходящий корнями в европейскую античность, в истории христианской Европы принимал различные формы племенной, религиозной и языковой вражды. Именно с точки зрения этого противостояния Ламанский рассматривал всю историю Европы. В ту пору он еще полагал, что перенос центра западной цивилизации в Северную Америку позволит снять остроту вековых противоречий и стабилизировать границы двух цивилизационных миров. «Дарованное романо-германцам единство Карла Великого, – рассуждал он, – было чисто внешнее и искусственное, вскоре после его смерти распалось и никогда более вполне не возобновлялось, если не считать исполинской попытки Наполеона I, сокрушенной по преимуществу энергиею и согласием двух, громаднейших в истории, империй, двух величайших в мире национальностей – англо-саксонский и русской. Им обеим довольно места на земле, и в видах собственного интереса каждая из них может и даже должна стремиться ко взаимному согласию и мирному житию, не роняя своего национального достоинства и не стыдясь взаимных уступок в Азии и Европе, насчет ли горных проходов или морских проливов. Они одни изо всех новых государств никогда не признавали монархии Карла Великого и не томились бесплодным желанием единства европейского»[22]. Однако оба цивилизационных центра – Россия и Северная Америка – обладают универсалистскими притязаниями империи. Первая по праву исторического и религиозного преемства от Восточной римской империи, а вторая, фактически, по праву силы. Эта претензия вновь приводит к противостоянию двух образов империи: духовного превосходства и земного могущества.
Европа никогда не была в подлинном смысле выразителем идеи империи, поскольку заимствовала лишь внешнюю форму и обманчивую наружность Рима. Римская идея не была Европой исторически пережита и осмыслена, чем вызваны и неудачи возрождения империи в Старом Свете. «Слишком близкое и рабское следование народов Западной Европы не столько идее, сколько внешним и временным, более случайным атрибутам и деталям Римской империи, может быть доказывает, что они никогда бы сами не выработали идеи мировой державы»[23]. Другое дело англо-саксонский мир. Британскую колониальную империю и Североамериканские штаты, полагал Ламанский, можно считать современными представителями империи Запада. «Отвергнув ее временные и случайные подробности, противные духу новейшей образованности, – писал он, – англо-саксы одни из всех романо-германцев вполне самостоятельно себе усвоили настоящую идею римской мировой державы и сумели ее усовершенствовать. Они обставили ее незнакомою древним системою народного представительства, свободою печати, судом присяжных и всеми великими приобретениями новой цивилизации»[24].
По существу, на Западе сложилась антиимперия, идеология и политическая практика которой противоречит идее империи. Она стремиться не распространять благочестивый порядок, а провоцирует за пределами своих границ конфликты (управляемый хаос), ассимилирует входящие в ее орбиту народы (плавильный котел), поддерживает частный и национальный индивидуализм, приводящий к эксцессам бытового и политического национализма, практикует эгоистический глобализм как новую форму колониализма. Нация, индивид и национализм представляют собой разные стороны революционного духа индивидуализма, стремящегося к тотальной унификации, централизации и насилию. Для антиимперии характерна власть символов, т. е. искусственная заданность реальности, проективный характер нашего мира. Если мир является всего лишь проекцией наших представлений, то реальность становится не отличимой от обманки и лжи, а ложь сама становится реальностью. В обществе господствует релятивизм, отказ от универсальных ценностей, без которых невозможно найти основу для взаимопонимания, отсутствуют критерии подлинности (в социальной жизни, искусстве, морали). При элиминации общих, всеми признаваемых ценностей, любая точка зрения может быть доказана и оправдана только силой. Средний мир, сохраняя верность идее империи, выступает в качестве антитезы как всемирного государства, так и национального государства.
Россия как империя
Первоначально идея империи и мысль о переносе «Римского христианского царства» для Москвы была также «фикцией», навязанной извне. Россия, политически и культурно возмужавшая в лоне восточно-христианской образованности, волею исторических обстоятельств вынуждена была взять на себя роль Рима и центра православного мира. «Византия же, – по словам М. Ю. Савельевой, – реализовывала имперскую идею через принцип культурной преемственности»[25], т. е. через включение в орбиту своего влияния других народов, прежде всего, посредством распространения православия, а не политического подчинения. Империей Россия была провозглашена в 1721 году, однако этому факту предшествовало более чем двухвековое признание ее в православном мире новым воплощением империи христианской. «В новое время с бόльшим только правом то центральное она занимает место в политической и культурной системе восточно-христианского или греко-славянского мира, какое принадлежало в нем грекам с половины IX до половины XV века», – писал Ламанский о России[26]. С XVI века усиливаются контакты России с Европой; новые идеи и увлечения постепенно завоевывают свое место в бытовом и духовном горизонте московского человека. Петр I, перенимая европейскую политическую практику, модернизируя армию, перенося нравы и прививая новые вкусы, попытался перекрестить Россию в западную империю и тем самым продлил период ученичества. Смена наставников, конечно, не прошла даром, но вновь отсрочила наступление периода самостоятельного творческого развития. «Подражательное, несамобытное, ненародное направление литературы и образованности, – рассуждал Ламанский, – есть необходимое, неизбежное явление в жизни каждого, самого даровитого, народа в случае, если он, не успев выйти из периода непосредственного творчества и создать самобытную художественную литературу, войдет в политическое и общественное столкновение с другим историческим народом, высоко и зрело образованным. В таком положении находились древние римляне, когда начали знакомиться с богатою греческою образованностью. <…> Сколько сходства и аналогий представляет этот период римской с петербургским периодом русской истории»[27]. Ламанского нередко упрекали в сопоставлении далеких исторических периодов, в произвольном рифмовании отдаленных фактов, в которых он видел «совершенно однородные явления». Однако установление исторических параллелей было необходимо ему для понимания смысла исторических событий.
Успех имперского преобразования России, предпринятый Петром I, был облегчен уже фактическим существованием России в качестве православного царства – единой христианской империи. Однако историческое призвание империи состояло не в подражании чужеродным образцам, как это, вероятно, виделось Петру, а в самобытном культурном творчестве. Империя означает не только государственное могущество, но и культурную мощь. В этом отношении реформы первого русского императора затемнили цивилизационное предназначение России стать выразителем культурной, созидающей силы целого цивилизационного мира. В греко-славянском мире, был убежден Ламанский, политическое преобладание соединено с культурным доминированием. Россия в качестве империи принимает на себя роль защитницы и собирательницы земель и народов Среднего мира. Однако это не означает внешнее, тем более насильственное подчинение. «Политический экспансионизм, свойственный некоторым формам имперского панславизма, у Ламанского был заменен идеей постепенного распространения “нравственного влияния” России», – отмечает О. В. Саприкина[28]. Россия должна воздействовать на другие народы посредством своего культурного превосходства, распространения русского языка и литературы. В этом элементе своего понимания идеи империи Ламанский очень ясно продолжает ту тенденцию, которая ранее была выделена в качестве наиболее принципиальной в воззрениях русских мыслителей второй половины XIX века.
В качестве отличия православной империи от имперских притязаний Западной Европы Ламанский указывал, на то, что на Востоке святительская власть, как правило, не оспаривала власть царскую. Примеры такого соперничества редки и поучительны в своих неудачах. «На греко-славянском Востоке, за исключением немногих случайных и никогда не имевших успеха попыток <…>, власть патриаршеская не поднимала войны на жизнь и смерть с властью царскою и даже не стремилась умалять и унижать ее авторитет в глазах народа. Точно также на греко-славянском Востоке рядом с империею Византийскою, и потом с царством Московским и империею Российскою не было очень сильных и богатых самобытною культурою государств, которые могли бы особенно сильно затмевать блеск империи и умалять значение народа-гегемона, народа господствующего и миродержавного»[29]. Духовная власть дополняла и усиливала светскую власть, поэтому на Востоке государство принимало формы крупного политического образования, в то время как на Западе соперничество и вражда приводили к политическому дроблению и усилению борьбы между частями. «На греко-славянском Востоке власть императорская могла достичь гораздо более всеобщего признания, чем на романо-германском Западе», – заключал Ламанский[30].
Считая Россию воплощением, пусть и несовершенным, христианской империи, Ламанский делал вывод, что мы должны признать ее центром цивилизационного греко-славянского мира. Вся вражда европейцев к России является лишь проявлением этого цивилизационного антагонизма. Частным случаем такого соперничества выступает историческое право быть империей, которая может быть только одна. «В сознании предков нынешних западно-европейцев, – замечал Ламанский, – все европейские страны, лежавшие между ними и Азиею, составляли как бы отдельный, отличный от них мир, который они и обозначали двумя названиями – Империя Константинопольская, или Греция, и Славия или Славония. <…> Новейшие ученые, в отличие от Западной Европы или мира романо-германского, стали правильно называть Европу Восточную миром греко-славянским. Если романо-германский мир или Западную Европу верно называют Европою Карла Великого, то Европу Восточную или мир греко-славянский по всей справедливости можно назвать Европою св. Кирилла и Мефодия»[31]. Ламанский достаточно рано осознал невозможность и прямую пагубность установления в славянском мире империи европейского типа. По словам С. В. Селиверстова, «он отрицает в отношениях между Россией и славянскими народами консолидацию европейско-имперского типа. И при этом отстаивает историко-культурное разнообразие славянского мира. <…> подлинный, настоящий славизм <…> предполагает не внешнее, политическое объединение, а духовно-культурное, “внутреннее”, которое позволяет сохранить и развить национальное, этническое разнообразие объединенного мира»[32]. Объединение греко-славянского мира должно достигаться не путем имперской унификации, а посредством установления духовного единства, религиозного и языкового.
Translatio imperii
Идея Translatio Imperii связана с другими частями концепции Ламанского: либеральной версией славянофильства (свобода слова, свобода совести, отмена крепостного права, бессословное государство), политической географией и учением о трех цивилизационных мирах, геополитической роли русского языка, кирилло-мефодиевской идеей. Значение подхода Ламанского состоит в том, что он попытался раскрыть цивилизационный смысл империи. Хотя в ней заключается высшая власть и нравственный авторитет, империя сознается им как цивилизационная форма. Император выступает здесь как «космократ», власть которого распространяется на народы, входящие в цивилизационную орбиту империи. Но это моральное и духовное верховенство, а не обязательно политическое. Империя вовсе не означает обязательную централизацию, как утверждают некоторые исследователи. При всем своем юридическим рационализме и легитимности, империя имеет иррациональное «призвание», или даже духовное «задание», поскольку провозглашает приоритет духа над материей. Империя – не территория, а принцип, идея. Она имеет духовные основания, без которых превращается в империализм – повиновение посредством силы. Империя держится на символизме власти, который отсылает нас к трансцендентной реальности.
Поддерживая мир и порядок (не только социальный, но и, так сказать, благочестивый) в пределах своей цивилизационной ойкумены, империя не избегает войны. Однако война для нее не самоцель, не способ расширения власти, а средство устранения конфликтов и самой войны. Не случайно, исходя из анализа цивилизационных противоречий, Ламанский предвидел неизбежность и ход мировой войны более чем за четверть века до ее начала. В соответствии с характерным для империи принципом «универсализма-изоляционизма» империя предпочитает достигать цели невоенными средствами и посредством создания буферных образований. Примеряя противоречия, проводя в жизнь принцип терпимости, империя охватывает разные народы, культуры и политические образования. Уважение к различиям и ценность самобытности для империи важнее властных перспектив тотального контроля. В этом отношении империя воплощает начало вселенское (универсальное), выступающее альтернативой унифицирующему глобализму
Культурный универсализм империи, стягивающий в единство многообразие, проявляется в открытости и подвижности ее границ, в ее пространственном расширении при сохранении мира и порядка (справедливого, благочестивого) внутри имперских границ. Империя – пространство культуры и цивилизации, а не унификации. Пространственная подвижность империи связана с ее культурным динамизмом, поскольку расширение достигается как посредством военного, так и культурного и интеллектуального превосходства. Культурная и интеллектуальная экспансия (порождение и трансляция новых смыслов) становятся главными средствами пространственного закрепления границ империи. Это означает символическое объединение пространства, наполнение мира новыми культурными объектами, т. е. указывает на высокую творческую функцию империи, в которой отражается креативная сила самого Творца и которая в этом отношении продолжает дело творения: вносит благочестивый порядок и смысл в окружающий мир. В концепции Ламанского главным средством такой творческой функции является развитый литературный язык; для греко-славянского мира – русский язык, в котором сконцентрирована смысловая объединяющая мощь (потенция) русской культуры.
Однако Ламанский критиковал славянофильский принцип «один народ – одно государство», которого, в частности, придерживался Н. Я. Данилевский. Вносимый империей порядок представляет собой постоянно возобновляемое внутреннее единство, т. е. он требует перманентных усилий и гибкой политики. Застой, любое стремление к стабильности, к сохранению status quo приведет к гибели имперского проекта. Империя утопична, поскольку не привязана к определенной территории, а в качестве идеи может переходит на другие народы и территории. В ней воплощается не обжитое и комфортное пространство дома, а характерное для империи пространство сакрального порядка (Святой Руси, Нового Иерусалима, справедливого социального строя). Поскольку империя – не форма государственного устройства, а идея, постольку она утопична и ахронична. В ней воплощается воля к бесконечности. Она не существует в настоящем, прошлом или даже будущем. Она пребывает в вечности, поэтому не случайно фактическое отождествление империи и мировой религии.
Имперский проект включает в себя особые способы освоения пространства, в том числе, интеграция иноэтнических стихий в единое цивилизационное целое. Вселенское начало, заключенное в идее империи, приводит к решению национального вопроса на основе принципа единства во множестве. Идея империи есть антитеза национализму. С этой стороны, учение Ламанского по развитию инородцев и «этнографических стихий» Среднего мира (создание национальных школ, поддержка национальных культур и языков, критика политики русификации) близко программе областников, полнее всего разработанной сибирскими областниками (Г. Н. Потанин, Н. М. Ядринцев, А. П. Щапов), что лишь подтверждает мысль о том, что регионализация – это одна из моделей империи, в то время как унитарное государство, с критикой которой выступали областники, противоположно империи. В унитарном государстве полнее всего воплощается принцип индивидуализма, в политической практике и в межнациональных отношениях приводящий к национализму. В имперском решении национального вопроса можно усмотреть аналогию с религиозным мессионизмом – отказ от принуждения, поддержка национальной культуры как средство формирования уважительного отношения к русскому языку и культуре.
В геополитическом учении Ламанского объединяющим цивилизационным началом и культуросозидающей силой, оправдывающей универсалистские притязания империи, выступает язык. Не отрицая значение религии, он признавал, что современные цивилизационные миры скрепляются языком. Все народы, которые принимают русский язык в качестве основы литературной, дипломатической и научной деятельности, а также средства межнационального общения являются частями империи как единого цивилизационного пространства – среднего или греко-славянского мира. Народы и страны, не входящие в цивилизационный ареал империи, воспринимаются либо в качестве варваров, либо как народы, погрязшие в грехе (отказавшиеся от традиционных ценностей, в современной трактовке). Границы империи – границы, где сохраняется «благочестие», где верны традиционным ценностям. Отсюда империя сознается не как механизм экспансии, а как орудие сохранения праведного мира. Поликонфессиональность России не оставляет места для монополии одной веры. Ее заменяет язык. Важна не вера, а проживание народов внутри границ империи и использование русского языка. Еще в Восточной римской империи, обращение народов в православие отдавалось Божественной воле, а не было прямой заботой государства. В христианстве основополагающим принципом спасения является свобода, поскольку никто не может быть спасен по принуждению. Любое вмешательство государства в дела веры неизбежно приводило к насилию и лишь отдаляло дело спасения. Современное цивилизационное противостояние, указывал Ламанский, – это уже не борьба религий или государств, а соперничество языков. Цивилизационная экспансия и контроль над территориями осуществляется посредством языкового доминирования. Имперский проект не связан с конкретной формой правления. Если Византийская империя скреплялась единством веры, то современный греко-славянский мир, ядром которого, центростремительной силой и главным представителем выступает Россия, держится единством языка. Имперский проект для Ламанского означает творческую мощь – высокую культуру. Богатая же культура, имеющая мировое значение, невозможна без сильного государства. В этом отношении маленькие политические образования, если они не примкнут к какому-либо имперскому проекту, способны породить лишь слабую провинциальную культуру.
***
Империя – не застывшая политическая форма, а идея, ищущая воплощения в истории. Ламанский полагал, что истинным наследником «римской идеи» в современном мире является Россия как преемница Восточной римской империи, в то время как прочие попытки возрождения империи на Западе были лишь фикцией или узурпацией. Империю он понимал как цивилизационную форму, напрямую не связанную с каким-то определенным способом правления, например, самодержавием. Можно заметить, что, согласно Ламанскому, в политической жизни славяне больше склонны к демократизму, чем к монархии. Империя допускает различные варианты государственного устройства, поскольку в ее основе лежит идея не политическая, а религиозно-нравственная. Это христианская идея универсального царства, объединяющего народы для того, чтобы привести их к спасению. Политическое могущество империи держится не внешней силой государства, а смысловым превосходством, культурным доминированием. При этом для достижения мира империя может прибегать к силе, но война является для нее не целью, а средством восстановления благочестивого порядка. Смысловой приоритет Византии опирался на христианство. Современная империя живет единством языка и культуры. Неслучайно, главной мыслью Ламанского, проходящей через все его творчество, было учение о русском языке, как о геополитической силе. Именно языки в современном мире объединяют регионы и народы в цивилизационные миры. Между языками идет борьба за доминирование, поскольку преобладание того или иного языка означает смысловой приоритет определенной культуры, со всеми вытекающими из него политическими импликациями. Запад воспринял чисто внешнюю сторону империи как сильного государства, подчиняющего себе другие народы, без того духовного содержания, которое несла империя, без ответственности и бремени, которые брала она на себя в заботе о входящих в ее цивилизационную орбиту народах, поэтому их попытки воспроизвести империю были лишь фикцией.
С истолкованием империи связано и учение Ламанского о трех цивилизационных мирах: романо-германском, азиатском и греко-славянском. Наиболее соответствовали идее империи те государственные и культурные формы, которые были выработаны народами греко-славянского мира: Византийская и Российская империи. Анализ исторических форм империи, предпринятый Ламанским, показывал и истоки того цивилизационного антагонизма, который сложился между романо-германским и греко-славянским миром. Частным проявлением этого антагонизма стало негативное отношение к славянам в Западной Европе и русофобия, истоки и типы которой Ламанский рассматривал в докторской диссертации «Об историческом изучении греко-славянского мира в Европе» (1871). Исследование петербургского ученого многие современники не восприняли серьезно. Оно казалось скорее подборкой забавных фактов и высказываний, чем исторической аналитикой. Ламанского упрекали в предвзятости и тенденциозной подборке материалов. Отчасти подобные упреки были справедливы. Он во многом намеренно приводил крайне резкие характеристики, которые европейская наука и публицистика давали славянам, чтобы, так сказать, предъявить «чистый тип», показывающий «настоящее» мнение европейцев и демонстрирующий политическую изнанку европейской науки. Демонизация славян и России, презрительное отношение к ним призвано было оправдать враждебную и захватническую политику европейцев на востоке Европы. На деле, «миродержавная миссия римлян», воспринятая Россией, должна отстоять независимость греко-славянского мира и направить его она путь самобытного культурного развития, сделать их самостоятельным субъектом всемирно-исторического процесса.
Примечания
В сокращенном варианте опубликовано: Малинов А. В. «Римская идея» в цивилизационной концепции В. И. Ламанского // Вопросы философии. 2023. № 2. С. 155–166. DOI: 10.21146/0042-8744-2023-2-155-166
[1] Санкт-Петербургский филиал архива РАН. Ф. 35. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 204.
[2] Ламанский В. И. Видные деятели западнославянской образованности в XV, XVI и XVII веках. Историко-литературные и культурные очерки // Славянский сборник. СПб.: Изд. Петерб. отд. Славянского комитета, 1875. С. 413–584. С. 422.
[3] Там же. С. 423.
[4] Там же. С. 427.
[5] Ламанский В. И. Введение в славяноведение. [СПб.: б.и.], 1891. С. 42.
[6] Ламанский В. И. Видные деятели западнославянской образованности… С. 431.
[7] Там же. С. 473.
[8] Там же. С. 481.
[9] Там же. С. 486.
[10] Там же.
[11] Санкт-Петербургский филиал архива РАН. Ф. 35. Оп. 2. Ед. хр. 121. Л. 17 об.
[12] Ламанский В. И. Видные деятели западнославянской образованности… С. 577.
[13] Ламанский В. И. Лекции по славянским наречиям за 1880–81 акад. год. [СПб.:] Литогр. Гробовой, б. г. С. 45.
[14] Там же. С. 46.
[15] Там же. С. 46–47.
[16] Ламанский В. И. Видные деятели западнославянской образованности… С. 445.
[17] Там же. С. 449.
[18] Там же. С. 451–452.
[19] Там же. С. 463.
[20] Там же. С. 423.
[21] Ламанский В. И. Об историческом изучении греко-славянского мира в Европе. СПб.: Типогр. Майкова, 1871. С. 16.
[22] Ламанский В. И. Кирилло-Мефодиевская идея // Известия С.-Петербургского славянского благотворительного общества. 1885. № 4. С. 208–212. С. 110.
[23] Ламанский В. И. Видные деятели западнославянской образованности… С. 423–424.
[24] Там же. С. 424.
[25] Савельева М. Ю. Соотношение мифологического и рационального в доктрине византизма // Философский полилог. 2017. № 2. С. 54–64. С. 58. DOI: 10.31119/phlog.2017.2.5
[26] Ламанский В. И. Видные деятели западнославянской образованности… С. 460.
[27] Ламанский В. И. Национальности итальянская и славянская в политическом и литературном отношениях. СПб.: типогр. А.А. Краевского, 1865. С. 87.
[28] Саприкина О. В. Историческое развитие славянских народов в информационном дискурсе российской славистики второй половины XIX в. // Люди и тексты. Исторический альманах. 2014. № 5. С. 272–291. С. 279.
[29] Ламанский В. И. Видные деятели западнославянской образованности… С. 461.
[30] Там же. С. 464.
[31] Ламанский В. И. Кирилло-Мефодиевская идея. С. 210.
[32] Селиверстов С. В. «Истинный славизм» раннего В. И. Ламанского и полемика с позицией А.С. Пушкина (конец 1850-х годов) // Славяноведение. 2021. № 3. С. 94–103. С. 98. DOI: 10.31857/S0869544X0015005-8
В заставке использована картина И. А. Акимова «Крещение княгини Ольги в Константинополе», ок. 1792, Русский музей, С.-Петербург
© Алексей Малинов, 2025
© НП «Русская культура», 2025