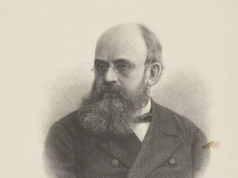Либеральный славянофил
Славянофильство Миллера не было плодом умозрительного вывода или даже волевого выбора, но важнейшим фактом его биографии, формой национально-культурного самоопределения. Осознавая себя всецело русским человеком, он считал делом ученого и педагога популяризировать славянофильское учение и разъяснять его основные положения. Делать это было тем проще, что славянофильство, обладая вполне определенными чертами историко-философского и культурно-исторического явления, тем не менее, не имело жесткой догматики. Вместе с тем, среди европеизированной русской интеллигенции о славянофильстве сложился ряд превратных представлений и откровенных мифов. С целью развеять последние и опровергнуть первые Миллер задумал публикацию небольшого цикла статей под общим заглавием «Основы учения первоначальных славянофилов», занявшего в двух номерах журнала «Русская мысль» в общей сложности 70 страниц. «Понятия о славянофилах как были в начале, так и остаются у нас до сих пор в высшей степени сбивчивыми и неточными. Между тем, в их деятельности выдаются черты, представляющиеся совершенно определёнными и вполне осязательными фактами», – объяснял Миллер замысел работы[1]. Он отнюдь не стремился к систематизированной догматизации славянофильской доктрины, а лишь намеревался расставить в учении славянофилов акценты, подчеркивающие наиболее значимые и принципиальные, с его точки зрения, моменты учения.
Принадлежа уже к другому, следующему за ранними славянофилами, поколению, Миллер имел возможность, так сказать «со стороны», оценивать пройденный славянофильством путь. Начинавшееся в качестве узкого кружка досужных московских дворян, связанных друг с другом дружескими и родственными узами, славянофильство приобрело в последнее трети XIX столетия более широкое распространение, получило признание среди своих деятельных последователей. Славянофильство, уточнял Миллер, «перестало быть замкнутой школой, чтобы подняться на степень общеобразовательного начала»[2]. В то же время ученый понимал, что славянофильству еще далеко до массового явления, а славянофилам – до властителей дум образованного русского общества. Некоторую надежду давало национальное воодушевление, охватившее широкие слои русской общественности в период обострения борьбы за освобождение южных славян от османского владычества. «Мы сознали себя, наконец, как общество, как народ, самостоятельной слой», – отмечал Миллер[3]. Сочувствие к восставшим на Балканах славянам способствовало пробуждению в русском народе национально-культурного самосознания, выразителями которого еще в 30-е – 50-е годы XIX в. были славянофилы. В этом едином, нравственном в своей интенции, порыве, всколыхнувшем широкие массы населения, славянофильство предстало в своем подлинном значении и величии, как движение народное. Еще во вступительном слове перед докторским диспутом Миллер замечал: «Пора бы бросить это варварское название, идущее со времён шишковшины»[4]. Случайность и даже нарочитая оскорбительность номинации «московского кружка» была очевидна Миллеру, настаивавшему, что вместо «славянофильское», «лучше сказать, народное»[5].
Термин «славянофильство» указывал на несущественный для этого движения национальный признак. Сам Миллер, не имевший ни капли славянской крови, служил лучшим подтверждением отсутствия в славянофильстве представления о «национальной исключительности» славянства. Вместе с этим, славянофилы выступали не только против национального самодовольства, но и не принимали крайностей «самооплевывания». Они, полагал Миллер, «потому и сочувствовали <…> славянам, что считали их менее всякого другого народа наклонными к исключительности, к народной гордыни»[6]. «Добрые задатки славянской жизни, – уточнял ученый, – ценились славянофилами не как славянские, а как общечеловеческие задатки»[7]. В этом отношении общегуманистические стремления в большей степени сближают славянофилов с западниками, чем с «националами» – сторонниками права силы, мечтающими о «повторении Рима в России». Более того, не верно представлять славянофилов радикальными антизападниками. Ранние славянофилы были хорошо образованными в европейском смысле людьми, знали и ценили европейскую культуру. Они не могли лишь принять презрительного отношения к своей собственной культуре, высокомерно отвергаемой с позиции некритичного и самодовольного европоцентризма. «Сами “славянофилы”, конечно, – признавал Миллер, – были вполне причастны европейской цивилизации; они никогда не думали, как это неверно утверждают у нас, отрекаться от неё, как от сатаны. Они только стремились к тому, чтобы поставить свой народ на степень самостоятельного вкладчика в мировую цивилизацию, не доведённую ещё Европою до того, чтобы можно было на этом остановиться и успокоиться»[8].
Миллер признает утопичность взгляда славянофилов на славянство, хотя и отмечает, что славянская тема была далеко не главной в мировоззрении славянофилов. Идеализирующая оценка славянофильства, т. е. взгляд на славян с точки зрения идеала, отражает лишь общие аксиологически ориентированные взгляды славянофилов. «Если славянофилы и выставляют славян в своём вкусе лучшими, чем они были и есть, – писал Миллер, – то вкус этот верно указывает на то, чем они должны быть, что должно де наконец, достигнуться человечеством, если оно действительно человечество, а не только усовершенствованная порода зверей»[9].
Однако отношение к России у славянофилов было куда более критичным. Миллер отмечал строгость суда славянофилов над современной Россией; «совместное признавание и русских народных благ, и русских исторических зол постоянно было выдающеюся чертою у первоначальных, чистейших представителей т. наз. славянофильства»[10]. Именно поэтому он писал о «полноте обоюдоострой славянофильской мысли»[11], наилучшей иллюстрацией которой может служить стихотворение А.С. Хомякова «России» (1854). Столь же реалистичны, полагал Миллер, оценки славянофилами и древней России. «Взгляд первоначальных славянофилов на древнюю Русь, – замечал он, – вызывая некоторые пополнения в оценке и светлых и тёмных её сторон, в сущности остаётся верным по своему беспристрастию»[12].
История, наставал Миллер, не должна строиться по заранее принятой схеме. И возвеличивание и принижение истории народа в равной мере вытекают из априористского взгляда на прошлое. Такой взгляд вполне объясним самим появлением у нас науки истории, перенесенной на русскую почву с полным сохранением всех выработанных европейской наукой схем, формул и объяснительных конструкций. «Историческая наука возникла у нас не органически, – констатировал Миллер, – а мы сразу захотели обзавестись ею, как обзаводились всеми возможными родами изящной литературы. Всё это произошло после петровского переворота… (хотя этот так называемый “переворот” был только неизбежным следствием продолжительного застоя в нашей органической жизни, к тому же и сбитой с своего собственного пути ещё в древнем периоде неумеренным, подчас, византийством)»[13]. Славянофилы, по мнению Миллера, одни из первых последовали принципу объективного и беспристрастного изучения прошлого. «Как бы ни ошибались славянофилы в частности, – пояснял ученый, – как бы, с другой стороны, ни оказывались они иногда непоследовательными, они были правы в том, что стояли за право самой жизни – не укладываться непременно в те умозрительные рамки, от проповедования которых именно и должна быть далека история, как опытная наука»[14]. Опытная в данном выражении означает опирающаяся на достоверные факты. Впрочем, среди родоначальников славянофильства не было профессиональных историков и историософские построения А.С. Хомякова и К.С. Аксакова не лишены схематизма.
Сам Миллер терпимее многих славянофилов относился к фигуре Петра I. Он не только признавал неизбежность «петровского переворота», но был готов видеть в показном демократизме и бытовой простоте первого русского императора воплощение древнерусского или даже былинного идеала «служилого князя». По словам Миллера, «постоянное личное работничество Петра <…> даёт возможность органически связать саардамского плотника со “служилы князем” древней Руси, подобно тому, как и в своём голландском платье и при своём собутыльничестве с голландскими шкиперами Пётр сохраняет родство с нашим эпическим “ласковым князем”, всегда всем доступным и всех равно угощающим»[15]. Конечно, подобное эпическое возвеличивание Петра I представляло со стороны Миллера известную идеализацию или даже литературный прием, но сама возможность такого сопоставления, такой исторической параллели говорит о живучести выраженных в эпосе народных идеалов.
Идеализм славянофилов, несмотря на уверения Миллера в их научной объективности, оставался характерной чертой всего движения и даже стал лейтмотивом жизненного пути самого Миллера. Идеализм этот имел христианские корни. «Ко всему и ко всем, – писал петербургский профессор, – первоначальные славянофилы с величайшей последовательность применяли строго христианскую точку зрения, – или, говоря другим языком, высшую нравственную, т. е. чисто человеческую»[16]. Миллер, как и ранние славянофилы, пытаясь буквально следовать христианским идеалам, фактически превратил свою жизнь в служение, в религиозное подвижничество. Он сам признавал в славянофильстве известный «религиозный порыв»[17].
Тотальность христианских идеалов не подвергалась в славянофильстве сомнению. «Славянофилы стремились безусловно провести христианство всюду – и в общественные, и в международные отношения. Поэтому-то и не признавали ни в каком виде – ни крепостного права, ни вообще права сильного», – указывал Миллер[18]. Общечеловеческая задача славянофилов, уточнял исследователь, заключалась «в привидении не только общественных, но и международных отношений к началам христианской нравственности»[19]. Полностью принимая эту точку зрения, он критиковал взгляды Н.Я. Данилевского и Н.М. Карамзина по вопросу о восстановлении Польши. Исходя из христианских идеалов, славянофилы, «ценя человечество во всей его целокупности, ценят и каждый из входящих в него народов, тоже во всей его целокупности»[20].
Несколько ранее в цикле статей «Основы учения первоначальных славянофилов» Миллер следующим образом формулировал схожую мысль: «Как отдельная личность сохраняется в общине, так и целый народ, по ученью славянофилов, должен звучать, как самостоятельный голос, в том дружном хоре народов, образование которого не могло не входить в идеальные запросы славянофильства»[21]. Здесь Миллер затрагивает одну из важнейших для славянофилов тем – учение о личности. В отличие от либеральной модели личности, подхваченной русскими западниками, согласно которой личность понимается как индивидуальная особь, наделенная разумом и волей, поступающая свободно, т. е. действующая по своему разумению, и стремящаяся навязать свою волю всем другим индивидам и тем самым утвердить свои права, славянофилы видели генезис личности в развитии нравственного сознания. Человек впервые и в полной мере проявляет себя как личность лишь отрекаясь от своего эгоизма, лишь признавая права других и ограничивая свою волю ради других людей. Согласно Миллеру, «нравственность и сводится ведь к тому, чтобы, отстаивая свою личность, не только не давать ей развиваться в ущерб другим, но и сознательно жертвовать собою для общего блага»[22].
Подлинная свобода личности проявляется не в безграничном эгоизме, а в сознательном самоограничении в пользу других людей, в пользу общины, т. е. общества. «Я же и до сих пор держусь того, – настаивал Миллер, – что без самоотвержения, т. е. без сознательного и добровольного подчинения притязаний своей личности требованиям общего блага – нет и не может быть свободы»[23]. Человек в подлинном смысле становится личностью, когда поступает согласно внутреннему нравственному закону, а не вследствие подчинения внешнему принуждающему закону. Это вопрос «об отношении между нравственною силою и учреждениями»[24]. Учреждения, не производя «живого добра», «способны в значительной степени ограничивать зло»[25]. Учреждения навязывают «правду внешнюю», в то время как «собственно только путь правды внутренней есть путь, вполне достойный человека»[26].
Нравственная концепция личности – не только очередной идеал, на который ориентируются славянофилы, он нашел отражение в русском эпосе и воплотился в русской истории. По словам Миллера, «в русском народном эпосе в сильной степени развито то, что я называю началом самоотвержения»[27]. «Вот эта-то нравственная сторона народного русского эпоса, – признавался он, – заставила меня сразу перейти к его изучению, как к главной задаче моей учёной деятельности на всю мою остальную жизнь»[28]. Полнее всего нравственная концепция личности воплотилась в древней русской истории. Носителями этого принципа личности были дружинные богатыри. «Дружина же нашего эпоса, как и общеславянское казачество, – писал исследователь, – служила не своему вождю, хотя бы и всегда выборному, а земле, ради обороны которой и собиралась эта воинственная община. Оттого-то в любом народном идеале богатырской силы личность, вовсе не убаюкиваемая, не исчезающая в семье или роде, сознательно и добровольно отказывается для самой себя и от власти, и от добычи, и от самой славы, занимая “местечко среднее между голей” и забывая всякую обиду личную при одном упоминании о вдовах и сиротах и о матушке Свято-Русской-земле»[29]. Община не противоречит личности, не подавляет ее. Напротив, она дает возможность полнее проявиться личностному началу. Миллер соглашается с Ю.Ф. Самариным в том, что «рядом с безграничным развитием личности в мире германском, т. е. рядом с неизбежным обращением её там в личность привилегированную, славяно-русский мир представляет нам развитие общинного начала, вовсе не подавляющего личность, но только удерживающего её в добровольно признаваемых ею границах»[30].
Из нравственного понимания личности вытекает и такое неотъемлемое ее право, как свобода слова. «Свобода мысли и слова в учении славянофилов выводится непосредственно из самой природы человека, как мыслящего и словесного существа», – констатировал Миллер[31]. Он, как и большинство славянофилов, был страстным пропагандистом свободы слова, рассматривая «право духовной свободы» в качестве одного из основополагающих требований славянофильского учения. Выступления и статьи Миллера неоднократно запрещались, что делало требование свободы слова для него не только способом отстаивания идеального принципа, но и естественной жизненной позицией или, по его словам, обязанностью. «Но это право, – писал ученый о свободе слова, – понимаемое у славянофилов так широко, как ни у кого более, и в котором одном заключается для них единственно нужное, по их мнению, нравственное обеспечение, это право есть вместе с тем и обязанность (в нашем русском воззрении и вообще не проводится резкой грани между обязанностями и правами)»[32].
Свобода слова означает свободу высказывания различных точек зрения, беспрепятственное выражение мнения в том числе оппонентов. «“Уверуйте в свой народ”, говорят “самобытники”, – писал Миллер, – представьте ему возможность и свободу саморазвития – и культура явиться, явится органический рост, и здоровье, и красота! “Самобытники” проповедуют эту веру и жаждут только свободы проповеди! Но ведь для свободы проповеди этого ещё мало <…> она требует, чтобы не заграждались уста и его противникам»[33]. Свободу слова славянофилы выводили из существовавшей в допетровской Руси свободы общественного мнения, указывая на историческую укорененность своих требований, на их соответствие историческим началам русской жизни. Свобода слова не даруется властью, она существует наряду и наравне с властью. Свобода слова не привилегия, а естественное право человека. В силу этого, для славянофилов не приемлемо обращение к власти; требование свободы слова обращено к обществу и осознающей свое достоинство личности. «“Самобытники” никогда даже не искали непосредственного доступа к власти хотя бы путём тех (не даром и термин иностранный) аудиенций, которых, напротив, искали и отчасти достигали литературные доктринёры западники (хотя бы и ратовавшие за официальную народность). “Самобытники”, – разъяснял Миллер, – знали только старорусскую форму непосредственного общения с властью – земскую, не келейную, а вслух, на виду у всех. Они жаждали только общения с властью путём свободного слова»[34]. «Это своё “свободное слово”, – продолжал ученый, – понимали они в смысле не только свободы печати, но и свободы мнения вообще – свободы <…> земского голоса, <…> народосоветия»[35]. Отсюда вытекала и особенность славянофильских споров – уважительное отношение к своим противникам, допущение противоположной точки зрения. «Спокойно-уважительный тон в полемике является и вообще одним из качеств славянофильского стана. В этом, как и во многих отношениях, он представляет блистательное исключение из наших литературных нравов»[36]. Терпимость к мнению оппонентов непосредственно перекликалась у славянофилов с терпимостью религиозной, с требованием свободы совести.
Свобода слова неотделима от христианства, не признающего любые формы принуждения в делах веры. Миллер, в четырнадцатилетнем возрасте перешедший в православие, полагал, что православие полнее сохранило и дольше придерживалось принципа доброй воли в вероисповедных вопросах, в то время как западноевропейская толерантность была вынужденной мерой, выстраданной в результате периода жестоких религиозных войн. Европейская терпимость, таким образом, лежит в области внешних норм социального регулирования, а не в душеной потребности христианина, видящего в свободе путь личного спасения. «Дело в том, – разъяснял Миллер, – что идея так называемой свободы совести на Западе развилась из рационализма – в связи с вытекающим из него равнодушием к вере (индифферентизмом). У нас же веротерпимость в былое время провозглашалась её многочисленным исповедниками прямо во имя веры, на том простом основании, что действительно уверовать и можно только свободно»[37]. Несовместимая с христианством нетерпимость, проникала на Русь вместе с византийским и западным влиянием, приносившими языческий аристократизм античного мира.
Миллер замечал, что требование свободы слова было для славянофилов развитием и расширением понимания христианской свободы совести. Свобода мнения означала распространение христианского начала веротерпимости на сферу общественной жизни. «А эту свободу церковной кафедры, – пояснял он, – славянофилы постоянно представляли себе не иначе как рядом с полнейшей свободой кафедры светской»[38]. Требование и право свободы совести и свободы слова столь же не устранимы из жизни, как и религиозные чувства человека. Славянофильское требование свободы слова и совести имеет религиозные истоки, а не следует либеральным принципам социального атомизма, хотя формально с ним совпадает. «Известно, – писал Миллер, – что посвящающие себя изучению человека в высших отправлениях его жизни всегда относятся с уважением к человеческим верованиям. История представляет им неопровержимые доказательства, что, сколько бы решительными ни представлялись победы скептического разума, религиозное чувство постоянно оказывается неистребимым»[39]. Однако свобода совести не просто личное дело индивида, не только голос его совести. Свобода совести в более широкой форме терпимости, не насильственности должна быть проведена в социальную жизнь. Для Миллера актуальным оставался вопрос юридического закрепления свободы совести. Государство не должно вводить и навязывать свободу совести, достаточно, чтобы оно ее признавало. Выводя веротерпимость из созвучного христианству характера русского народа, Миллер замечал, что «необходимо, чтобы, согласно с характером русского народа, полнейшая свобода совести признавалась у нас и законом»[40]. Взращенная христианством терпимость должна стать основой и политической деятельности. «Мы, – говорил Миллер от имени русского народа, – не переставали и никогда не перестанем отталкивать её (нетерпимость. – А. М.) от себя, отрекаясь как от религиозного, так и от политического захватывания»[41]. Впрочем, здесь речь идет не о политической практике, а о содержании славянофильского политического и социального идеала.
Другой важнейший пункт славянофильской программы – борьба за отмену крепостного права. Причем славянофилы считали крепостное рабство как противоречащим духу христианства, так и не эффективным с экономической точки зрения. Осуждая сам принцип личной зависимости, Миллер отмечал, что «весь ход нашей истории с самого татарского ига мог только самым неблагоприятным образом действовать на народ»[42]. Однако окончательно крепостное право сформировалось и закрепилось в России во многом под влиянием европейских идей и начал, разрослось и окрепло начиная с эпохи европеизации, т. е. с XVIII в. Даже русский историк И.Н. Болтин «при всей своей патриотической обиженности за своё отечество, не особенно, однако, желал немедленного избавления его от рабства, так возмутившего французского автора»[43]. Это обстоятельство не позволяло Миллеру прямо относить И.Н. Болтина к предшественникам славянофилов. «Европействующая интеллигенция», отмечал он два десятилетия спустя после отмены крепостного права, до сих пор страшится последствий освобождения крестьян.
Итак, «высшее развитие крепостного права относится уже к Руси удостоившейся наития европейской просветительской философии»[44]. Миллер объяснял это обстоятельство тем, что европейская цивилизация изначально строилась на принципе неравенства. «Ведь цивилизация, – писал он, – если вникнуть в её сущность – всё ещё создаётся немногими и для немногих»[45]. Аристократический европоцентризм особенно заметно сказался в эпоху Просвещения. Не случайно, один из российских его последователей, Феофан Прокопович, называл в проповедях простой народ «дешёвыми душами». Миллер осуждает такой взгляд с христианской точи зрения: «Это прямое нечестие на языке церкви; но подданные царства культуры не могут иначе выразиться о некультурных людях»[46]. Вместе с этим он осуждает и всё противохристианское направление развития европейской культуры.
Неприятие крепостного рабства составляет одно из коренных начал русской жизни, бесспорный факт русской истории. Заслуга славянофилов состояла именно в том, что они стремились возвратить русское общество к этим коренным началам. Как писал Миллер, в основу крестьянского освобождения «легла древнерусская непременная принадлежность человека земле. Не мешало бы вспомнить о том, что если в основу великого дела легло именно это начало, то следует быть благодарным не самоновейшим “бюрократическим соображениям”, а роющемуся в старинных лохмотьях славянофильству»[47]. Исторические аргументы стали главными и при формулировании славянофилами принципов крестьянской реформы. «Положения эти сводятся собственно к двум: признанию исторического права крестьян на землю и признанию необходимости сохранить общину»[48].
Миллер полностью солидаризировался с кн. А.В. Васильчиковым в том, что «уничтожение крепостного права не только не было преждевременно, как думали многие, но напротив того – запоздало. Пусть же историческая ответственность падёт на всех тех, кто, не смотря на свою европейскую образованность, или даже при помощи цитат из самого Руссо, заставляли всё откладывать и откладывать роковой неотложный вопрос!»[49]. Слова Миллера звучат как проклятие аристократизму европействующей интеллигенции, сохраняющей свои властолюбивые надежды и рабовладельческие вожделения.
Отмена крепостного права, был убежден Миллер, открыла новый этап в истории русского народа. В заключение своего исследования о былинном эпосе он писал: «Оборотная точка в жизни народа русского обозначилась лишь 19 февраля 1861 года. С этих пор лишь открывается для него возможность снова пойти вперёд, снова начать испытывать впечатления и влияния не притупляющие, а возбудительные – после того мертвящего многовекового застоя, какой пришлось ему испытать. Но и теперь ещё страшной преградой для бодрого движения народа вперёд остаются бессмертные наши “кабак” и “кружало” с их обычным эпическим прозвищем»[50]. Не приходится сомневаться в искренности слов Миллера, в его сопереживающей причастности и желании преодолеть негативные стороны русской жизни. Надежды на перемены к лучшему, пробужденные воодушевляющей атмосферой реформ 1860-х годов, Миллер сохранил до конца жизни.
Славянофилы никогда не чуждались европейской философии и культуры. Магистерская диссертация Миллера была написана с гегельянских позиций. Немецкий идеализм стал той философской основой, на которой выросло славянофильство. Возможно, гегельянство подготовило и тот мировоззренческий переворот, который привел Миллера к славянофильству. Орест Федорович прямо указывал на значение Гегеля для формирования славянофильской идеологии. По его словам, «вытекающее из гегелевский философии истории учение о чередовании национальных цивилизаций. Русским последователям Гегеля оставалось сделать всего один шаг (и догадливые из них его скоро сделали), чтобы придти к заключению о будущей мировой цивилизации свежего славянского племени, предназначенной на смену германской цивилизации, которую оставалось объявить стареющею»[51].
Конечно, славянофильство в первую очередь имело корни в русской истории и действительности, в тех идейных течениях, которые дали о себе знать в эпоху европеизации. Прежде всего – это критика заимствований и европеизма как системы ценностей, отрицающих основы русской народной жизни и мировоззрения. Критика эта стала набирать силу со второй половины XVIII в. и открыто заявила о себе в последней трети столетия, когда в полной мере проявились отрицательные последствия европеизации. Критическое умонастроение этой эпохи можно назвать «просвещенным национализмом». Для Миллера ключевой фигурой здесь был Н.И. Новиков. Как писал петербургский профессор, «домашний источник, сказавшийся ещё в XVIII в.; – это вполне разумное сознание всех нелепых крайностей нашего подражательного периода (крайностей, за которые всего менее должен бы отвечать Пётр Великий) и чувство неудовлетворённости его практическими результатами, вполне понятное при возмутительной мишуре нашего “философского века”, когда, с одной стороны, восхищались “Наказом”, с другой же, только больше надвигалось ярмо на шею крестьянина. Уже при теперешних историко-литературных данных не трудно было бы проследить непрерывающуюся нить, восходящую от современных нам славянофилов до Новикова. Гегельянство только дало своеобразный толчок и придало особый оттенок (а вместе с тем и санкцию со стороны европейской же мудрости) направлению, которое давно уже просачивалось у нас в виде самобытного родника»[52]. Как это может быть не покажется странным, но к ранним единомышленникам славянофилов Миллер относил и итальянского мыслителя XVIII в. Д. Вико. «Он один из тех великих умов, которые, избирая ещё неиспытанный путь, остаются, можно сказать, одиноки, не признаваемые современниками», – писал он[53]. Прижизненное одиночество Д. Вико с лихвой окупается нечаемыми им духовными наследниками – славянофилами. Нет, Д. Вико, конечно, не писал о грядущем историческом призвании славян, но он сделал основой своей историософской концепции принцип народности, отказавшись от деления народов на исторические и неисторические – этого наследия надменных языков античности. «В том-то, – отмечал Миллер, – и одна из главнейших заслуг Вико, что он поставил науку на ту точку зрения, с которой умаляется значение единиц и, напротив, увеличивается значение целых масс»[54]. «Вико, – продолжал он, – везде проводит между народами уравнивающее начало, он подрывает значение народов избранных, которым будто бы дано всё, тогда как другим не дано ничего, и они должны довольствоваться во всём только умственною подачкою с чужого стола. Учёный демократизм Вико наносит сильный удар народам-аристократам»[55].
Д. Вико, к сожалению, был скорее исключением для своего времени. И Просвещение имело свою теневую сторону. Освобождая разум и личность, борясь с предрассудками и оптимистически уповая на прогресс, просветители потемняли гуманистические ценности христианства и вместе с реабилитацией разума реанимировали языческие идеалы. И русские деятели «философского века», даже зачисляемые в предшественники славянофилов, в полной мере поддались соблазну просветительского аристократизма. Ни кн. М.М. Щербатов, ни И.Н. Болтин, «в сущности (особенно первый) далеко не заслуживают этой клички. В нашей истории особенно любопытным ведь и представляется постепенное пробуждение чутья народности сквозь напускной европеизм и тесно связанную с ним лже-народность, очень ещё заметную и у Карамзина»[56]. Уточняя, Миллер писал, что «“народность” Карамзина подчас оказывается народностью без народа»[57]. Он достаточно критичен по отношению к Н.М. Карамзину, который «хотя в своём роде славянофильствовал, – но так, как славянофильствовали при императрице Болтин и кн. Щербатов, т. е. sauf tuot le respect pour le дворянство и его исключительные права»[58]. Точку зрения Н.М. Карамзина на землевладение Миллер считал противонародной, как и «путы барства» – позорящими русское самодержавие. «Освобождение крестьян было слишком надолго задержано влиянием барства и тяжесть экономического переворота от этого и усилилась. Ответственность в этом отношении в значительной степени падает и на Карамзина», – укорял историографа Миллер[59]. В этом отношении он более высоко оценивал древнерусских летописцев, считая их подход к истории более объективным с точки зрения признания роли народности. «Несмотря ни на какой византизм, – писал ученый, – наш древний летописец умел верно схватывать и воспроизводить основные черты своей славянской народности. Наш историк-европеец сразу как-то оглох и ослеп по отношению к ним. Фальсификация нашей летописи в исторических записках Екатерины II вовсе не единичное явление. В своём роде фальсификацией (хотя и не всегда умышленной, как у Екатерины) нашей исторической жизни остаётся ещё во многом и история Карамзина»[60].
Главным расхождением между славянофилами и Н.М. Карамзиным, что, собственно, и не позволяет зачислить последнего в предтечи первых, было отсутствие у славянофилов какой-либо националистической программы. Миллер не даром делает акцент на том, что славянофильство возникло на волне пробуждающегося интереса к народности (и в романтическом смысле то же). Случайность названия «московского кружа» не должна вводить в заблуждение: славянофилам были чужды представления о национальной исключительности славян. Национализм не совместим со славянофильством таким же образом, каким романтический принцип народности не совместим с просвечивающим сквозь просветительскую идеологию национализмом. Н.М. Карамзин же – деятель русского Просвещения, выводящий заложенные в нем консервативно-националистические последствия. Славянофилы принадлежат уже другой эпохе. Их увлечение народностью лишено аристократизма и национально-исторической гордыни. Их основные лозунги либеральны по содержанию. Однако Миллер находит для славянофилов другое обозначение; они – гуманисты. «У славянофилов, – писал он, – сказывались известные точки соприкосновения с Карамзиным – главным образом во взгляде на Петра Великого. Но исходные точки были совершенно различны. Карамзин подходил к тому, что называется теперь националом, славянофилы же были в сущности гуманисты – не в древне-классическом, а в христианском смысле этого слова»[61]. Славянофилы известным образом восполняли отсутствие гуманистической стадии в развитии русской мысли, традиционно на Западе соотносимой с Ренессансом. В России гуманизм не предшествовал, а наследовал Просвещению. Аналогия с Ренессансом здесь вполне уместна. Личностью ренессансного типа среди славянофилов был, безусловно, Алексей Степанович Хомяков.
Среди родоначальников славянофильства, и без того недюженных деятелей русской образованности, выделялась «многосторонняя, величавая личность А.С. Хомякова, этого отставного штаб-ротмистра, бывшего и поэтом, и публицистом, и историком, и, по словам Ю.Ф. Самарина, “учителем церкви”»[62]. Ренессансный масштаб личности А.С. Хомякова усиливается Миллером параллелью с отечественными современниками эпохи итальянского возрождения, в частности, с Максимом Греком. Исследователь указывает на то, что «некоторые зародыши воззрений Хомякова можно найти, например, у Максима Грека»[63].
Миллер лишь кратко касается историософской концепции А.С. Хомякова, сравнивая его «Записки о всемирной истории» с «Россией и Европой» Н.Я. Данилевского. Согласно Миллеру, А.С. Хомякову были чужды имперские вожделения и мечты о миродержавной роли России. «Он, – писал Миллер о А.С. Хомякове, – не допускает повторения Рима в России <…> Видно, стремление увлечь Россию на путь Рима слишком уже было противно его христианской душе»[64].
Как историк литературы Миллер в большей степени интересуется Хомяковым-поэтом. Согласно его оценке, А.С. Хомяков – поэт гражданин[65], «знает себя только в связи с другими, только живою частью великого и единого целого, видит свою цену личности и умеет о ней говорить только во множественной её форме – мы»[66]. Он отмечает нравственный аристократизм А.С. Хомякова-поэта[67] и нередкую зависимость его поэтического творчества от идейных и философских установок славянофильства, что по верному наблюдению Миллера, не лучшим образом сказывается на поэтической форме стихотворений А.С. Хомякова[68]. Общее содержание мировоззрения лидера славянофилов Миллер выразил в следующей характеристике: «В груди Хомякова теплилось ровным, неугасимым огнём такое широкое чувство любви к земле русской, что им поглощался весь мир его чувств – и только составною в нём частью оказывалось всякое другое, личное чувство. Но представление русской земли расширялось для него далеко за её, всеми ощущаемые, государственные пределы; она постоянно связывалась для Хомякова со всем единоплеменным и единоосновным, как бы пророчески рисуясь ему связующим звеном великого славянского мира. Наконец, в составе этого мнообъемлющего целого, она представлялась ему многозначительной вкладчицей уже и в прошедшие, и в её настоящие, ещё же более в будущие судьбы всего человечества. Служа земле русской, с любовью блюдя в ней своеобразие её славянских основ, как её лучшее право на решительный голос во всечеловеческом хоре, он думал, что только этим путём и можно служить в самом деле и целому миру. И он вполне был готов почитать себя гражданином вселенной, но видел всю цену, весь смысл такого гражданства только в качестве представителя в нём славяно-русского мира»[69]. Представленная в характеристике Миллера индуктивная структура мировоззрения А.С. Хомякова не заслоняет в ней главного – роли России в славянском мире. «Но Хомякову, – уточнял исследователь, – предвиделось и вообще – в отношении к целому миру славянскому – не какое-либо другое, как именно освободительное, возрождающее значение России[70]»[71]. Космополитическая интенция, структурирующая взгляды А.С. Хомякова, говорит лишь об общем гуманистическом настрое его мировоззрения, не допускающего любые формы насилия и формально-институционального объединения. В этом смысле, говоря об освободительном «возрождающем значении России», Миллер имел в виду возрастание научного, литературного и в целом культурного авторитета России, способной стать ориентиром для других славянских народов. «Всякая тень союза с принудительной внешней силой оставалась ему постоянно противною. Он ценил только свободные связи», – пояснял Миллер[72]. Идеалистические в целом представления А.С. Хомякова не закрывали для него проблемы и противоречия современной России. Утопически размышляя о будущем России, А.С. Хомяков не идеализировал ее настоящее; он глубоко «чувствовал все недуги и язвы современной ему действительности»[73]. Эта действительность давала много поводов для отчаяния, но А.С. Хомяков не терял надежды, оставаясь посильным тружеником славянского дела, не увидевшем плодов своего труда, не дожившим до сбора урожая – отмены крепостного права.
В 1876 г. на смерть Ю.Ф. Самарина, последнего представителя кружка славянофилов, Миллер откликнулся рядом выступлений и публикаций. В Ю.Ф. Самарине, подчеркивал ученый, «главным образом высказалась прикладная сторона славянофильства»[74]. «Восприняв, можно выразиться, всем своим существом основные положения славянофильства, – продолжал Миллер, – он усмотрел как бы особый вид службы родной земле в обороне этих положений от их противников. Это становилось для него ратованием за русскую землю против неё самой, против непонимания ею своей исторической сущности и настоящих своих потребностей»[75]. К прикладной стороне славянофильства, разрабатываемой Ю.Ф. Самариным, можно отнести его публицистику по крестьянскому вопросу и о национальных меньшинствах. Однако для Миллера наиболее существенным в наследии Ю.Ф. Самарина остается отстаивание принципа общины и формируемого в ней благодаря началу самоотречения принципа личности. «Усматривая в русско-славянском мире, вместе с другими славянофилами, преимущественное развитие общинного начала, он, – писал Миллер о Ю.Ф. Самарине, – выносил из него практическую идею самоотвержения, полнейшее развитие которой находил он в исповедуемом всеми силами его искренней и горячей души христианстве»[76]. Рассуждения Миллера о Ю.Ф. Самарине и А.С. Хомякове носят несколько условный характер, служат для разъяснения и конкретизации основных положений славянофильства. Другое дело Иван Сергеевич Аксаков(1823–1886), входивший в круг личного общения Миллера, и его соработник на поприще обороны славянофильства от нападок противников и популяризации славянофильских идеалов в русском обществе.
Миллер не случайно соотносил свои взгляды с точкой зрения И.С. Аксакова, печатал в его московских изданиях свои статьи. И.С. Аксаков, со своей стороны, высоко ценил научно-публицистическую деятельность Миллера и его верность либеральным принципам славянофильства. В поздравительном письме, направленном Миллеру в честь 25-летия его педагогической деятельности он, в частности, писал: «Вы не изменили себе ни разу в течении 25 лет вашего служения словом, отличавшегося всегда мужественною искренностью, как в свидетельстве о правде, так и в изобличении неправды; вы никогда не сходили с нравственного пути и неутомимо развивали в ваших учениках требования нравственные, отождествляя их с русскими народными идеалами, с любовью к русской народности»[77].
Общение Миллера с И.С. Аксаковым продолжалось с 1863 г. до конца жизни Ивана Сергеевича. Его смерть Миллер воспринял как уход одного из наиболее духовно близких ему (подобно Ф.М. Достоевскому) людей. В последние годы жизни Орест Федорович посвятил И.С. Аксакову ряд публикаций. Это некролог, помещённый в журнале «Русская старина» (1886. Кн. 3), а затем переизданный в «Сборнике статей, напечатанных в разных периодических изданиях по случаю кончины И.С. Аксакова» (М., 1886), а также несколько статей, опубликованных в «Известиях Санкт-Петербургского славянского благотворительного общества»: «И.С. Аксаков и 19-е февраля» (1886. № 5, 6), «И.С. Аксаков и свобода слова» (1887. № 3) и «Внутренняя жизнь и ход развития И.С. Аксакова по его письмам» (СПб., 1889). Последняя работа, поводом для написания которой послужила публикация писем И.С. Аксакова («Иван Сергеевич Аксаков в его письмах» М., 1888), была прочитана в качестве доклада в торжественном собрании славянского Общества 14 февраля 1889 г. и издана отдельной брошюрой.
В творчестве И.С. Аксакова, поэтическом и публицистическом, Миллер отмечал настойчивое требование освобождения крестьян и утверждение в России бессословного государства. Дворянство, полагал И.С. Аксаков, как сословие себя изжило, оно «могло бы удовольствоваться теми преимуществами образования, которые до сих пор были ему более доступны, чем всем другим классам общества, и которыми ему предстоит воспользоваться для общего блага»[78]. Более того, постоянно выступая против политики русификаторства, И.С. Аксаков ратовал за «обрусение» русского образованного слоя (дворянства), т. е. национальной интеллигенции. Обрусение нерусских народов, населяющих Россию, не нужно и даже опасно, поскольку идёт в разрез с принципом народности. Развитие общества – вот лучшее средство противостояния сепаратизму. В тоже время безнациональная интеллигенция, ориентирующаяся на иноземную культуру, представляет реальную опасность для развития России и является, несомненно, показателем болезненного состояния общества. Перед дворянством, как наиболее образованным слоем общества, и всей русской интеллигенцией должна стоять задача выработки самобытной культуры, без которой не возможно здоровое развитие общества и народа. Только самостоятельная культура может ограничить чрезмерное давление на общество со стороны государства. В этом пункте Миллер солидаризировался не только с И.С. Аксаковым, но и с Ф.М. Достоевским. «Именно невыработанностью своей культуры и по взгляду Достоевского, – писал Миллер, – вызвано у нас, наконец, нетерпеливое стремление обзавестись ею сразу, выписать её из-за моря, при ближайшем участии правительственной власти. Таким характером нашей запоздалой культуры и объясняется то, что мы уже слишком много забот возложили на попечительное правительство»[79]. Говоря о самобытной культуре, Миллер включал в неё образование и науку, которые также должны быть обезопасены от чрезмерного вмешательства со стороны государства. Он соглашался с протестом И.С. Аксакова, чтобы «новозаведённая у нас наука была отобрана в казну»[80]. Идеал бессословного государства, достичь которого можно, по мысли И.С. Аксакова, распространением на все сословия дворянских привилегий, воспринимался Миллером в целом как идеал социальный, как та «наша самостоятельность», в которой только и возможно спасение России. «России, – воспроизводил он точку зрения И.С. Аксакова, – стране не аристократической и не буржуазной, а земледельческой, можно было бы спастись от всех трудностей “рабочего вопроса” и мирным путём достигнуть осуществления того социального идеала, который не даётся Западной Европе, не смотря ни на какие кровавые революции»[81]. Это означало, что никакое решение внешних, мировых задач, стоящих перед Россией, не будет успешным, пока не будет покончено с внутренней неправдой, пока в стране царит социальная несправедливость. «Аксаков постоянно и напоминал нам о неотложных вопросах внутренних, о невозможности их отделять от вопросов внешних, о том, что политическое могущество прочным образом зиждется только на гражданском преуспеянии. <…> Известно, что он проводил в своём “Дне” идею решительного, раз на всегда, освобождения мысли и слова, освобождения в таких размерах, с такой широтой, каких мы не видим нигде, но которые представлялись ему вполне соответствующими качествам и историческим отношениям к верховной власти русского народа, никогда не стремившегося забрать в свои руки власть, но постоянно глядевшего на неё, как на такое средство для достижения общего блага, которое верно действует только при помощи прямого и откровенного народного голоса. В свободе мысли Аксаков видел не политическую привилегию, а Богом дарованное человеку право»[82]. По словам Миллера, «известно, что в славянофильском учении правда внутренняя становится выше правды внешней»[83].
В то же время, в И.С. Аксакове Миллер особенно ценил следование христианским идеалам, «способность ставить выше всего свою человеческую душу. На каком бы поприще, думал он всегда, ни пришлось служить, надо прежде всего служить той верховной силе, глашатаем которой является совесть, и которая называется Богом!»[84]. В «гуманной, жаждущей свободы душе» И.С. Аксакова Миллер видел следы той духовной работы и борьбы, которые лежат в основе православного мировоззрения и поступания. Он даже сопоставлял духовные искания И.С. Аксакова, рефлексивно отражённые в его письмах, с исихастской практикой. Так, например, попытку И.С. Аксакова подавить в себе тщеславие Миллер сравнивает с характеристикой «этой изворотливой страсти у одного из наших духовных писателей XV–XVI ст., преп. Нила Сорского, с которым Аксаков едва ли был тогда знаком»[85].
Понятно, что и в поэтическом творчестве И.С. Аксакова Миллер усматривал столь ценимую им «нравственную силу». «Общее и господствующее впечатление его поэзии, – отмечал он, – оставалось закаляющим нравственные силы в горниле терпения и выносливости»[86].
Главное же требование, без устали провозглашаемое И.С. Аксаковым, – это требование свободы слова. В свободе слова сходились все основные положения славянофильской программы: укрепление нравственных устоев как жизни, так и творчества; принцип народности; мировое предназначение России. Нравственная сила общественного мнения выступала гарантом самостоятельного развития народа и его культуры, а свобода слова и «полнейшая веротерпимость» – главным оружием России. «При полной свободе слова, – выражал Миллер свое славянофильское исповедание, – могла бы, наконец, выясниться перед целым миром и историческая наша идея – то, без чего никогда не может нам достаться окончательная победа. При свободе слова стало бы наконец ясно, как день, что наше историческое призвание – в верном служении народу, самому народу, как выражался Аксаков, тому, кто составляет у нас на Руси небывалое нигде большинство, тому, кто и в целом славянском мире решительно должен преобладать на том уже простом основании, что всё, стоящее в этом мире над самим народом, изменило заветам родной истории, в том или другом смысле увлечено чужбиной. И в этом, должно быть, сказался особый исторический просмысл. <…> Ведь нам надобно только, как выражался Аксаков, перестать наконец “трусить свободы”. Надо только понять, что от злоупотреблений свободы, сказывающихся от того, что, дорвавшись наконец до неё после долгого гнёта, люди теряют голову, – спасение в той же свободе, в широком просторе для каждого честного убеждения, для открытой борьбы со злом живых общественных сил. История ведь не ждёт, она высылает нам на встречу неотложные, настоятельные задачи, задачи, для которых потребуются люди, живые люди с горячей душой»[87].
Русское западничество
Воспринимая славянофильство в качестве своего личного жизненного принципа, Миллер не мог не высказать свое отношение и к русскому западничеству, которое он относил к «подражательному периоду нашей истории». Подражательный, заимствованный характер современной русской культуры, вызванный «нашей похотливой гоньбой за “последними” западным учениями»[88], дает представление о периодичности русской истории и оставляет надежду на то, что со временем направление русской культуры измениться и маятник русской истории качнется в противоположную сторону. «Мы не даром крестились при Петре Великом в западноевропейскую цивилизацию. Нам тяжело расставаться с укоренившейся верой в неё. Узкая национальная исключительность была у нас только явлением напускным, временною прививкой, при упразднении которой мы даже страстно ударились в противоположную крайность»[89].
Чем же обогатила, по словам Миллера, «многопрославленная цивилизация» Европы человечество? Что привнесла она в русскую жизнь? Чем разнообразила русскую культуру? Запад воздействовал на другие народы своими исконными, коренными началами. В основе европейской жизни, полагал Миллер, лежит «индивидуализм, т. е. крайнее развитие личности, домогающейся для себя всей полноты свободы»[90]. Однако право личной свободы утверждало себя на Западе насилием и произволом. «Эта пресловутая полнота личной независимости, – писал Миллер, – неизбежно остаётся уделом тех, кто сильнее. Таким образом, право логически совпадает с силой – в чём бы ни выражалась она»[91]. Оборотной стороной и неизбежным следствием западного индивидуализма, таким образом, становится насильственность. Она проявляется в первую очередь в воинственности европейских народов, в изобретении новых средств уничтожения, в постоянном изощрении военной техники. «Разве люди не сделались от неё (европейской цивилизации. – А. М.) только более ловкими и умелыми, только более изобретательными на всё – даже на легчайшие способы истреблять друг друга? Разве лучшие жизненные соки современного нам европейского мира не уходят на то, что называется вооружённым миром – этим порождением взаимного недоверия от постоянного выглядывания друг у друга лакомого куска?», – вопрошал Миллер[92]. С другой стороны, насильственность проявляется в захвате привилегий, в преимуществах, даваемых капиталом или образованием. Допускаемая безграничная свобода личной мысли, приводит к учению об умственной аристократии. Именно этим оправдывается противопоставление «культурных» наций всем прочим народам, а, фактически, культивируется идея превосходства одного народа над другим, признающая различные формы современного и древнего рабства и множащая насилие. Миллер говорит здесь о проповеди «привилегированности одних народов, или народных комплексов, целых племён, перед другими»[93]. «Человечество, – пишет он, – в силу такого учения, распадается на расы благородные и неблагородные – низшие, варварские, не исторические. Эти последние существуют лишь для того, чтобы служить подножием для первых – высших, культурных, исторических рас, имеющих право не только опираться на низшие, но и просто затаптывать их. К числу таких то племён-подножий отнесено, надо думать, и славянское племя»[94]. На почве европейского индивидуализма вырастают и откровенно человеконенавистнические теории, согласно которым «для политического аппетита культурных, т. е. действительно человеческих рас, существуют расы некультурные, т. е. в сущности те же животные»[95]. Западноевропейская философия также озаботилась обоснованием культурно-исторической исключительности европейских народов. Однако, замечает Миллер, сама система гегелевской философии истории скрывает возможность опровержения гегемонии западного человечества, сея среди европейцев славянофобию и порождая страхи относительно России. «Но западноевропейское начало индивидуализма, – рассуждал ученый, – сказалось и в охватившей умы уже в начале нашего века знаменитой системе философии истории, по которой вся она сводится к чередованию великих культурных народностей с их цивилизациями. Система эта приводила к той политически-культурной гегемонии, которая твёрдо закреплена за германским миром. Но ведь стоит только провести эту систему далее, – и явится мысль о будущей новой смене, о той новой декорации, которая должна же будет, в свою очередь, появиться на мировой сцене. Что, ежели эту новую декорацию вздумают поставить славяне?… Вот и не надобно предоставлять славянам даже простого права на независимость; – они, разумеется, ею не ограничатся, а захотят, подобно другим, да ещё с этой громадой Россией во главе, забрать в свои руки мировую гегемонию!»[96]. Не только европейцы пришли к заключению о неотвратимости перехода исторического лидерства от германцев к славянам. В России на эту возможность впервые указали славянофилы, а их последователи прямо заговорили о грядущей миродержавной роли славянства.
Умственный и социальный аристократизм Запада в полной мере передался и русским европофилам. По словам Миллера, «наши западники остаются гуманистами в чисто классическом смысле, в смысле избранного, интеллигентного человечества, ряды которого, правда, пополняются всеми народами, но под условием отречения от своей народности, духовного разрыва вступающих в храм мировой культуры с неизбежно остающимися за его дверями “подонками” своего народа»[97]. Духовный раскол европеизированной части русского общества и основной массы русского народа отягощается стремлением закрепить в обществе социальное неравенство. «Между тем, – возмущался Миллер, – наши либералы, ради того, что они называют “правовым порядком”, становятся готовыми защищать сословность, прямо даже сочувствовать дворянским вожделениям»[98]. Западническая партия, начиная с эпохи Петра I, признавал Миллер, находила покровительство со стороны власти. На смену бездумному подражательству петровской эпохи пришло другое западническое направление – «официальная народность», которую, в свою очередь, сменило «прогрессивное» западничество «еще так недавно рабовладействуещего дворянства». Миллер прямо обвинял западническую интеллигенцию и дворянство в «боярских вожделениях».
Западничество, на взгляд Миллера, чисто отрицательное явление. Оно не только отвергает национальную культуру, но и постоянно отрицает заимствованные из Европы учения и формы жизни, вытесняемые новыми, идущими с Запада, приобретениями. В этой смене идей, в постоянном отрицании быстро устаревающих и обесценивающихся заимствований, западничество способно дойти до собственного отрицания. Согласно Миллеру, «в самой жизни наших верхних, искусственно образованных слоёв, не было общих, совокупной работою собственных сил добываемых, руководящих идей. Постоянно сменялась у нас одна, заносимая счужа идея другою, и во имя новой – постоянно умно, а потому и удачно, отрицалась в нашей литературе старая, т. е. ей предшествовавшая, с другой же стороны отрицалась, уже с самых первых времён нашей подражательной образованности, и самая, только что указанная ложь и беспочвенность нашей жизни»[99]. Такова обоюдоострая сила взятого на вооружение гегелевского диалектического метода.
Корни современной европейской цивилизации уходят в эпоху Античности, генетически связывающую европейские народы в одно культурно-историческое целое. «Классический мир, – пояснял Миллер, – это создание двух великих самобытных народностей, близок здравому смыслу всякой европейской народности (не говоря уже о том, что все они – от одного общего корня с римлянами и греками)»[100]. Вместе с античным наследием европейская цивилизация впитала и языческие (а, по сути, антихристианские) духовные и культурные практики, идеи и формы жизни. Полнее всего языческие идеалы сохранились в формах государственной и социальной жизни Европы. «Выработанное древним Римом начало государственной веры, – писал Миллер, – сообщилось и Риму новому, наследовавшему от языческой старины и предания мирового господства. Отсюда-то формальная обязанность единой веры, отсюда и стремление к распространению этой веры во все концы мира на острие завоевательного, всесокрушающего меча»[101]. Право силы стало решающим аргументом в делах веры.
Личностное же начало германизма, иллюстрируемое Миллером примерами из древнегерманского эпоса, также не способствовало усвоению христианских идеалов, а зачастую и прямо противоречило христианскому пониманию личности. «Нет, – признавал ученый, – на той грубой почве, которая производила подобные идеалы, трудно было привиться христиански-понимаемому началу личности – признанию прав её даже в самом враге. Если что и могло приходиться по нраву жестокой древне-германской натуре, то это ветхозаветный закон возмездия: “око за око и зуб за зуб”»[102]. Отсюда становится понятным и вывод Миллера о том, что «стихия германская, в историческом развитии своём при сильной закваске римской, оказалась вовсе неблагоприятною почвою для насаждения в общественном строе настоящих христианских начал»[103].
Осознание негативных последствий европеизации и антихристианских начал западной цивилизации побуждает Миллера оценивать западничество в качестве отрицательного явления и сомневаться в цивилизационных достижениях Запада. Даже социально-политическая сфера, в которой Европа достигла, казало бы, наибольшего прогресса, вызывает у Миллера скептическую оценку. «Да, сгнила та сама западная государственность», – провозглашал он скорее с надеждой, чем с уверенной констатацией[104]. Так писать Миллера заставляло «оскорбленное чувство правды», которое двигало и русскими добровольцами, отправлявшимися в 1876 г. на помощь восставшим сербам. Откровенная несправедливость европейцев по отношению к славянам во время балканского кризиса приводила к пониманию порочности всей политической системы современного Запада, а вместе с этим понуждала устыдиться и столь широко распространенного европейнечанья. «И поняли мы, вместе с тем, – признавался Миллер, – что должно же быть что-то не ладно в этой знаменитой цивилизации Запада, если может с ней уживаться такая вопиющая неправда в политике. <…> Ошеломлённые сознанием подобной несостоятельности того, во что мы так беззаветно веровали, мы как будто прониклись глубоким стыдом за себя и за предметы нашей веры и, под влиянием этого чувства, прежде, быть может, всяких других побуждений, вдруг устремились спасать и тех, кто отдан на жертву варварству на глазах у равнодушной к тому цивилизации, и самую эту цивилизацию и её носительницу Европу, так ужасно себя опозорившую!»[105]. Однако исторический драматизм и политическая острота момента, а также публицистическая резкость высказываний лишь актуализируют для Миллера настоятельность смены культурно-исторических идеалов. Европеизм дискредитирован и в жизни, и в науке. «Но ведь зато в настоящее время, для нас становится настоятельным пересмотр всей истории Запада в связи с озадачившим нас вопросом», – настаивал Миллер[106]. Можно добавить, что пересмотр истории означал в данном случае и аксиологическую переакцентировку всей русской науки и образованности.
Заключение
Славянофильские убеждения Миллера были непосредственно связаны с его научной деятельностью, хотя во многом и перекрывались последней. Испытывая искреннюю любовь к русскому народу и веря в будущее России, Орест Фёдорович видел в славянофильстве учение, обосновывающее примат нравственных начал во всех областях человеческой жизни, отстаивающее свободу слова и свободу совести, последовательно проводящее принцип народности в науке и жизни. Исторически именно православие, в отличие от католичества, был уверен Миллер, охраняло и поддерживало народность, прежде всего допуская родной язык в богослужении. «В силу этого принципа, как я понимаю, – уточнял Миллер, – за каждою народностью, чувствующей в себе призвание к самостоятельной жизни, признаётся право на самостоятельность; и в каждой отдельной народности право на разумно-человеческое существование признаётся не за одной какой-нибудь частичкой народа, а за всеми, его составляющими людьми»[107]. Народолюбие Миллера Б.Б. Глинский со слов А.Н. Пыпина называл «учёным народничеством», уточняя при этом, что «народничество его было, считаем мы необходимым добавить, с сильным оттенком славянофильства первой формации»[108]. Согласно Миллеру, развитие принципа народности служит необходимым условием для выработки самобытной культуры или цивилизации. «Цивилизация, таким образом, – пояснял он, – в сущности создаётся народами; каждый великий народ вносит свою самостоятельную долю в её сокровищницу; каждый, вновь поступая на сцену истории, воспринимая цивилизацию, создававшуюся до него другими, непременно продолжает её создавать, внося в неё что-нибудь из своей народности»[109]. Пришло время и славянскому племени занять достойное место среди цивилизованных народов, восприняв и усвоив достижения других племен, творчески продолжить культурное развитие. Миллер был убеждён, что «цивилизация должна пойти далее, и что народы славянские, если только они действительно исторические, должны будут её подвинуть вперёд»[110]. «Что касается принципа народности в науке, – продолжал он свои рассуждения, – то я вижу его в том, чтобы, отказавшись от мировых, обобщающих взглядов, во всяком случае преждевременных, не браться за всё человечество, а начать с составляющих его отдельных народностей, и к каждой из них подходить с тем, чтобы понять её из неё же самой, удовольствоваться со стороны её тем, что сама она даст, добросовестно отыскать в ней то, что отыщется»[111]. В отстаивании принципа народности как внутри страны, так и во вне Миллер даже видел всемирно-историческую или мессианскую задачу, стоящую перед Россией.
Славянофильские взгляды разделяли и другие коллеги Миллера по историко-филологическому факультету Петербургского университета. В первую очередь здесь надо назвать К.Н. Бестужева-Рюмина и В.И. Ламанского. Учитывая общность принимаемых ими позиций, можно даже говорить об особом историко-философском явлении – академическом славянофильстве. Правда, не все из единомышленников Миллера прямо пропагандировали славянофильское учение с университетской кафедры. Известно, например, что славянофильство К.Н. Бестужева-Рюмина практически не сказывалось в его преподавании. Не таков был Миллер. «Славянский вопрос, – вспоминал один из учеников, – часто бывал тоже предметом его обсуждений на лекциях: он пропагандировал этот вопрос в университете, разъяснял его значение, и должно заметить, что его слова не оставались “гласом вопиющего в пустыне”. Петербургское студенчество являлось значительно более “славянизированным” нежели прочих университетов, что может быть в сильной степени зависело от той симпатичной и чистой окраски, которую придавал славянскому вопросу Орест Фёдорович»[112]. Полнее всего славянофильская публицистика Миллера представлена в сборнике «Славянство и Европа. Статьи и речи 1865–1877 г.» (СПб., 1877). После окончания русско-турецкой войны 1877–1878 гг. крупных работ по славянскому вопросу Миллер уже не писал, не переставая, однако, популяризировать и разъяснять смысл славянофильского учения. В этом ключе был написан небольшой цикл статей «Основы учения первоначальных славянофилов», опубликованный в 1880 г. в журнале «Русская мысль». Публицистика Миллера позволяет говорить о нем как о представителе либерального крыла славянофильства. В то же время Миллер, как и некоторые другие славянофилы, интересен не только своими взглядами, но и образом жизни. Славянофильский аскесис Миллера воздействовал на современников ничуть не меньше, чем его речи, лекции и статьи. В этом он сходился с греческими философами, для которых образ жизни был неотделим от образа мыслей. Славянофильство было для него формой самосознания русской культуры, которую он воспринял всей своей душой. «Он отзывался на немецкую фамилию, но был неподдельным хорошим русским человеком, сросшимся с землёй и народом, носящим имя Россия и русских»[113].
Примечания
[1] Миллер О.Ф. Основы учения первоначальных славянофилов // Русская мысль. 1880. Кн. I. С. 78.
[2] Миллер О.Ф. Ю.Ф. Самарин. Опыт характеристики // Миллер О.Ф. Славянство и Европа. Статьи и речи 1865–1877 г. СПб., 1877. С. 134.
[3] Миллер О.Ф. Славяне и русское общество // Миллер О.Ф. Славянство и Европа. С. 205.
[4] Миллер О.Ф. Вступительная речь, произнесённая 25 января 1870 г. в СПб. Университете перед публичным защищением диссертации на степень доктора доцентом русской словесности О.Ф. Миллером // Заря. 1870. Февраль. С. 97, прим.
[5] Там же. С. 97.
[6] Миллер О.Ф. Основы учения первоначальных славянофилов // Русская мысль. 1880. Кн. III. С. 37.
[7] Там же. С. 38.
[8] Миллер О.Ф. Что такое в Европе славянский вопрос? // Миллер О.Ф. Славянство и Европа. С. 387.
[9] Миллер О.Ф. Основы учения первоначальных славянофилов // Русская мысль. 1880. Кн. III. С. 28.
[10] Миллер О.Ф. Русско-славянский вопрос и «начало народности» (по поводу книги г. Фадеева «Мнение о восточном вопросе») // Миллер О.Ф. Славянство и Европа. С. 86.
[11] Там же.
[12] Миллер О.Ф. Основы учения первоначальных славянофилов // Русская мысль. 1880. Кн. III. С. 32.
[13] Миллер О.Ф. Ю.Ф. Самарин. Опыт характеристики. С. 161–162.
[14] Там же. С. 163.
[15] Там же. С. 142–143.
[16] Миллер О.Ф. Основы учения первоначальных славянофилов // Русская мысль. 1880. Кн. III. С. 35.
[17] Там же. С. 44.
[18] Там же. С. 43.
[19] Миллер О.Ф. Европа и Россия в восточном вопросе // Миллер О.Ф. Славянство и Европа. С. 272.
[20] Миллер О.Ф. Западники и славянофилы в их отношениях к малорусской народности // Известия Славянского благотворительного общества. 1884. № 10. С. 4.
[21] Миллер О.Ф. Основы учения первоначальных славянофилов // Русская мысль. 1880. Кн. I. С. 81.
[22] Там же.
[23] Миллер О.Ф. Вступительная речь. С. 97.
[24] Миллер О.Ф. Основы учения первоначальных славянофилов // Русская мысль. 1880. Кн. I. С. 83.
[25] Там же.
[26] Там же.
[27] Миллер О.Ф. Вступительная речь. С. 97.
[28] Там же.
[29] Миллер О.Ф. Ю.Ф. Самарин. Опыт характеристики. С. 149.
[30] Там же.
[31] Миллер О.Ф. Основы учения первоначальных славянофилов // Русская мысль. 1880. Кн. I. С. 87.
[32] Там же. С. 88.
[33] Миллер О.Ф. Исповедники и партия // Известия Славянского благотворительного общества. 1884. № 1. С. 8.
[34] Там же. С. 10.
[35] Там же.
[36] Миллер О.Ф. Ю.Ф. Самарин. Опыт характеристики. С. 145.
[37] Миллер О.Ф. О церкви в исторической жизни русского народа. (По поводу пятисотлетии от начала архипастырства Св. Стефана Пермского) // Русь. 1883. 13 апреля. № 8. С. 19.
[38] Миллер О.Ф. Основы учения первоначальных славянофилов // Русская мысль. 1880. Кн. III. С. 36.
[39] Миллер О.Ф. Ю.Ф. Самарин. Опыт характеристики. С. 179–180.
[40] Миллер О.Ф. Культурные и политические панслависты // Русский курьер. 1888. 15 октября. № 285.
[41] Миллер О.Ф. Европа и Россия в восточном вопросе // Миллер О.Ф. Славянство и Европа. С. 309.
[42] Миллер О.Ф. Вступительная речь. С. 105.
[43] Миллер О.Ф. Что такое в Европе славянский вопрос? // Миллер О.Ф. Славянство и Европа. С. 384.
[44] Миллер О.Ф. О церкви в исторической жизни русского народа. С. 21.
[45] Там же. С. 22.
[46] Там же.
[47] Миллер О.Ф. Славянский вопрос в науке и в жизни (По поводу «Обзора истории славянских литератур» А.Н. Пыпина и В.Д. Спасовича. С.-Петербург, 1865) // Миллер О.Ф. Славянство и Европа. С. 12.
[48] Миллер О.Ф. Ю.Ф. Самарин. Опыт характеристики. С. 169.
[49] Миллер О.Ф. Князь А.И. Васильчиков. Очерк вместо некролога // Исторический вестник. 1881. Т. VI. С. 805.
[50] Миллер О.Ф. Илья Муромец и богатырство киевское. СПб., 1869. С. 822.
[51] Миллер О.Ф. Ю.Ф. Самарин. Опыт характеристики. С. 135.
[52] Там же. С. 136.
[53] Миллер О.Ф. Вико и значение его «новой науки» для «психологии народов» // Заря. 1870. Апрель. С. 46.
[54] Там же. С. 47.
[55] Там же. С. 57.
[56] Миллер О.Ф. К. Бестужев-Рюмин. Биографии и характеристики. Татищев, Шлёцер, Карамзин, Погодин Соловьёв, Ешевский, Гильфердинг. СПб., 1882 // Исторический вестник. 1882. Т. VIII. С. 448.
[57] Там же. С. 449.
[58] Миллер О.Ф. Князь А.И. Васильчиков и его биограф (Князь Александр Илларионович Васильчиков. 1818–1881. Биографический очерк. Составил А. Голубев. СПб., 1882) // Мысль. 1882. № 10–11. С. 128.
[59] Миллер О.Ф. К. Бестужев-Рюмин. Биографии и характеристики. С. 449.
[60] Там же.
[61] Миллер О.Ф. Основы учения первоначальных славянофилов // Русская мысль. 1880. Кн. III. С. 42.
[62] Миллер О.Ф. Европа и Россия в восточном вопросе. С. 269.
[63] Миллер О.Ф. Основы учения первоначальных славянофилов // Русская мысль. 1880. Кн. III. С. 22, прим.
[64] Там же. С. 42.
[65] «Звание “поэт-гражданин” также бесспорно принадлежит Хомякову, как звание “гражданина-писателя” вообще признано – и опять даже людьми из чужих рядов за Константином Аксаковым» (Миллер О.Ф. Хомяков – поэт славянства // Миллер О.Ф. Славянство и Европа. С. 115).
[66] Там же. С. 116.
[67] В стихах Хомякова «есть, так сказать, аристократизм нравственный, так как поэт в них резко противополагает себя всем другим, обыкновенным будничным людям» (Там же. С. 118, прим.).
[68] «Правда, стихотворения Хомякова не все отличаются выдержанностью поэтической формы. В некоторых решительный перевес над поэтом получает мыслитель» (Там же. С. 114–115).
[69] Там же. С. 119–120.
[70] «В сущности же такое значение России желалось ему и в более широком, – обще-европейском или, лучше сказать, мировом круге» (прим. О.Ф. Миллера).
[71] Там же. С. 122.
[72] Там же. С. 124.
[73] Там же. С. 127.
[74] Миллер О.Ф. Ю.Ф. Самарин. Опыт характеристики. С. 134.
[75] Там же. С. 145.
[76] Миллер О.Ф. В собрании 11 мая 1876 г. // Миллер О.Ф. Славянство и Европа. С. 416.
[77] Цит. по: Очерк научной деятельности профессора О.Ф. Миллера с приложением празднования 25-летнего юбилея. Составил И. Ш. [И.А. Шляпкин]. СПб., 1889. С. 32.
[78] Миллер О.Ф. Иван Сергеевич Аксаков // Сборник статей, напечатанных в разных периодических изданиях по случаю кончины И.С. Аксакова. М., 1886. С. 81.
[79] Там же. С. 82.
[80] Там же. С. 87.
[81] Миллер О.Ф. Внутренняя жизнь и ход развития И.С. Аксакова по его письмам. СПб., 1889. С. 15.
[82] Миллер О.Ф. И.С. Аксаков и свобода слова // Известия Санкт-Петербургского славянского благотворительного общества. 1887. № 3. Март. С. 150.
[83] Миллер О.Ф. Внутренняя жизнь и ход развития И.С. Аксакова по его письмам. С. 11.
[84] Там же. С. 34–35.
[85] Там же. С. 10, прим.
[86] Миллер О.Ф. Иван Сергеевич Аксаков. С. 75
[87] Миллер О.Ф. И.С. Аксаков и свобода слова. С. 152.
[88] Миллер О.Ф. Исповедники и партия. С. 12.
[89] Миллер О.Ф. Филантропия и политика // Миллер О.Ф. Славянство и Европа. С. 335–336.
[90] Миллер О.Ф. О современных задачах русской науки // Миллер О.Ф. Славянство и Европа. С. 258.
[91] Там же.
[92] Миллер О.Ф. Светоч христианства. (Под впечатлением картины г. Семирадского) // Миллер О.Ф. Славянство и Европа. С. 362.
[93] Миллер О.Ф. О современных задачах русской науки. С. 259.
[94] Там же.
[95] Там же. С. 260.
[96] Там же. С. 261.
[97] Миллер О.Ф. Западники и славянофилы в их отношениях к малорусской народности // Известия Славянского благотворительного общества. 1884. № 10. С. 5.
[98] Миллер О.Ф. А.И. Кошелев и Р.А. Фадеев // Известия Славянского благотворительного общества. 1884. № 3. С. 24.
[99] Миллер О.Ф. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 829.
[100] Миллер О.Ф. Вико и значение его «новой науки» для «психологии народов». С. 49.
[101] Миллер О.Ф. Европа и Россия в восточном вопросе. С. 276.
[102] Там же. С. 283–284.
[103] Миллер О.Ф. Основы учения первоначальных славянофилов // Русская мысль. 1880. Кн. III. С. 25.
[104] Миллер О.Ф. Славянский вопрос в науке и в жизни. С. 61.
[105] Миллер О.Ф. О современных задачах русской науки. С. 247–248.
[106] Там же. С. 250.
[107] Миллер О.Ф. Славянство и Европа. С. 74.
[108] Глинский Б.Б. Орест Фёдорович Миллер. С. 52.
[109] Миллер О.Ф. Славянство и Европа. С. 69.
[110] Там же. С. 65.
[111] Там же. С. 75
[112] Глинский Б.Б. Орест Фёдорович Миллер. С. 88.
[113] Человек с открытым сердцем. С. 164.
В заставке использован пейзаж Петра Суходольского «Деревня Желны», 1864, Государственный Русский музей, С.-Петербург
© Алексей Малинов, 2023
© НП «Русская культура», 2023