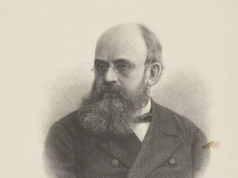Взаимные отношения Николая Гавриловича Чернышевского и Владимира Ивановича Ламанского еще не становились предметом отдельного изучения. Скудость документальных свидетельств и редкость исследовательской литературы о Ламанском вполне объясняют, хотя и не оправдывают этот печальный факт. В качестве частного сюжета, он вписывается в более широкую тему: Чернышевский и славянофилы, отчасти уже рассматривавшуюся в исследовательской литературе[1]. Чернышевский и Ламанский были, пожалуй, самыми известными учениками И. И. Срезневского. Утверждение о том, что Чернышевский был любимым учеником Срезневского[2], в равной степени может быть отнесено и к Ламанскому. Чернышевский и Ламанский писали выпускные сочинения по близкой тематике, заданной их учителем: «Опыт словаря к Ипатьевской летописи» (Чернышевский) и «О языке Русской правды» (Ламанский). Работа Ламанского была удостоена серебряной медали, которую он отказался получать. Впоследствии Срезневский сетовал на то, что «медальная диссертация» Ламанского «к сожалению осталась неизданною»[3]. Ламанский стал преемником Срезневского на университетской кафедре, хотя знакомством с Чернышевским он едва ли был обязан своему учителю. Чернышевский окончил Петербургский университет в тот год, когда Ламанский был только принят на первый курс. В университете Ламанский тесно сошелся с А. Н. Пыпиным, дружеские отношения с которым, несмотря на идейные разногласия, сохранял до конца жизни. Примечательно, что рецензия Пыпина на издание магистерской диссертации Ламанского «О славянах в Малой Азии, в Африке и в Испании» была опубликована в том же номере журнала «Современник» (1860. Т. LXXX), что и статья Чернышевского «Антропологический принцип в философии», причем перед статьей Чернышевского.
У Пыпина, вероятно, и состоялась встреча Ламанского с Чернышевским. Первые упоминания о Чернышевском в дневнике молодого слависта датированы маем 1853 г. Так, 2 мая 1853 г. он отмечал «разлад между поступками и мыслями»[4] у Чернышевского. Примечательно это критическое наблюдение, фиксирующее умаление аскесиса у своего нового знакомого. Последующее общение только укрепило это критическое впечатление, возможно, со временем усилившееся до чувства взаимной неприязни. По крайней мере уже вскоре Ламанский рефлексировал в своем дневнике: «Что за барин этот Черныш<евский>? Со мною говорить он не зачинает, боится ли унизиться, или просто в нерасположении, или принадлежит он к роду людей, которые с первого разу не нравятся, а потом к ним привязываешься все больше и больше. Или во мне есть кое-что пришедшееся ему не по нутру? Это вероятнее, потому что сегодня, как только я подсел к нему, он тотчас же удрал в другую горницу, как бы намеренно избегая»[5]. Еще один любопытный факт Ламанский зафиксировал в дневнике 23 мая 1853 г. После экзамена по психологии у А. И. Райковского он зашел к Пыпину, где «в обществе его невестки (Ольги Сократовны) провел время необыкновенно весело»[6]. В 1857 г. в «Современнике», скорее всего благодаря протекции Чернышевского, вышла одна из первых крупных и программных статей Ламанского «О распространении знаний в России» (Современник. 1857. Т. LXIII). Это был недолгий период сближения «Современника» со славянофилами, поддержанного Чернышевским. Сохранились свидетельства о том, что Чернышевский был знаком с некоторыми из братьев Ламанского: Сергеем Ивановичем (1841–1900), физиком, учеником Г. Л. Ф. Гельмгольца и сотрудником Д. И. Менделеева, и Евгением Ивановичем (1825–1902), известным экономистом, управляющим Государственным банком[7]. Статью Е. И. Ламанского Чернышевский упоминал в своем обзоре славянофильской «Русской беседы»[8].
Связующим звеном между Ламанским и Чернышевским оставался А. Н. Пыпин. Приятельские отношения, несмотря на нередкие встречи и общих знакомых, между ними не сложились, а различие взглядов, со временем, вероятно, сформировало даже личную антипатию. В переписке Ламанского упоминание Чернышевского встречается, как правило, в связи с Пыпиным. Так, например, Пыпин в письме просит не сердиться на Чернышевского, который перед отъездом за границу, встречаясь с Ламанским, не поведал о «болезни» Пыпина, поскольку эта «болезнь» была выдумана в качестве повода для отъезда Чернышевского в Лондон[9]. В письмах Ламанскому Пыпин также неоднократно упоминает Чернышевского, прося что-либо передать через него. Среди опубликованной дочерью Ламанского переписки были воспроизведены два письма Чернышевского. В одном из них сообщалось, что Чернышевский, вероятно по просьбе Ламанского, искал в Италии его книги среди книг Пыпина, но не нашел. В этом же письме Чернышевский приглашал Ламанского в гости и предупреждал, что сам собирается зайти к нему. В другом послании (27 сентября 1860 г.) Чернышевский приглашал Ламанского на встречу с Е. Д. Южаковым, отмечая, что «Вы услышите от него много интересно о Болгарии»[10] и хлопотал об уроках для Е. Д. Южакова[11]. Университетский товарищ Пыпина и Ламанского В. Я. Ососов извещал Ламанского 18 января 1860 г.: «Сейчас у меня был Пыпин и звал Вас и меня сегодня на вечер к Чернышевскому, где будет между прочим Забелин»[12].
Критически относился к Чернышевскому не только сам Ламанский, но и близкие к нему в то время люди. 21 января 1858 г. Н. И. Костомаров отправил Ламанскому письмо, в котором благодарил за выписки о С. Разине из издания немецкого 1674 г. и просил прислать список со стихотворения Ганки и излагал свой взгляд на крестьянскую реформу. «Замечу Вам, – писал Н. И. Костомаров, – что люди, знакомые практически с сельским бытом, ужасно вооружаются против общинного владения (безотносительно к своим выгодам или невыгодам) и не жалуют особенно статьи Чернышевского»[13]. Вероятно, в письме или личной беседе с Н. И. Костомаровым Ламанский затрагивал вопрос об интересах крестьян и взгляде Чернышевского на крестьянскую общину.
Полемика с Чернышевским пришлась на период окончательного формирования научных и философских взглядов Ламанского. Вскоре после защиты магистерской диссертации Ламанского, в 1861 г. в журнале «Современник» была опубликована статья «Национальная бестактность», в которой Чернышевский выступил против первых номеров львовской газеты «Слово», стремившейся печатать статьи на русинском языке, приближенном к русскому литературному языку. Еще в 1820-е гг. среди галицийской интеллигенции появились сторонники использования русского литературного языка, поскольку он был близок как церковнославянскому, так и старому литературному языку (язычию)[14]. В 1866 г. газета «Слово» уже прямо «выступила с москвофильских позиций, заявив, что есть единый великий русский народ от Карпат до Камчатки и единый русский язык»[15]. Чернышевский обратился к галицийским русинам с призывом использовать в качестве литературного языка малорусский, а не русский язык: «Наши малороссы уже выработали себе литературный язык несравненно лучший, зачем отделяться от них?»[16]. «Зачем вы придумываете себе особенное ломаное наречие, отделяясь от общей малорусской литературы?» – вопрошал Чернышевский[17]. При этом автор статьи признавался в симпатиях к малороссам, в «очаровании» ими и отмечал, что «иноплеменник становится малорусским патриотом, если хоть сколько-нибудь поживет в Малороссии»[18]. Чернышевский оставлял галицийским русинам возможность быть только частью малороссов, а не считать себя частью русского народа в целом. Эта позиция рецензента «Современника» и вызвала основные возражения со стороны славянофилов.
Чернышевский также обрушился с критикой на редакцию «Слова» за негативное отношение к ассимиляции русинов поляками. Национальная неприязнь, считал Чернышевский, играет на руку австрийскому правительству, специально «раздувающему вражду», чтобы держать в повиновении народы. Он не признавал фактов насильственной полонизации населения Галиции или не видел в этих фактах ничего плохого, а значит, и не понимал стремления русинов сохранить свою национальность. Собственно и национальность эту Чернышевский не признал, воспринимая русинов лишь как западных малороссов. Существующие противоречия он оценивал как сословные, а не национальные. По его словам, «корень галицийского спора находится в сословных, а не в племенных отношениях»[19]. В противостоянии галицийских русинов полякам он усматривал «натянутость сословных отношений между поселянами и помещиками. <…> Тут дело в деньгах, в сословных противоречиях, а нисколько в национальностях и вероисповедании»[20].
Первоначально выход галицийско-русской газеты материально поддержал митрополит Григорий (Яхимович), поэтому в «Слове» появились комплиментарные по отношению к греко-католическому иерарху публикации, которые дали Чернышевскому повод обвинить галицийских русинов в политической незрелости. Отсутствие светских лидеров, полагал он, свидетельствует о неспособности русинов к политической борьбе. Имея в виду редакцию газеты «Слово», он писал, что «выставляют себя руководителями русинов люди, которые не умеют ничего понять, не умеют ничего полезного своему народу сказать»[21], поэтому населению западной Галиции редакторы «Слова» приносят, скорее, вред. На страницах журнального обзора Чернышевский неоднократно заверял в своем желании русинам всяческих благ, которые, по его мнению, их ожидают при условии отказа от русскости и сопротивления ополячиванию. В исследовательской литературе было высказано мнение об иносказательности рецензии Чернышевского, писавшего не только о «русинах», но и о «русских». «В этой рецензии под словом “русский” Чернышевский иногда подразумевает и “русинский”, и “русский” <…> он имеет в виду не только русинский, но и русский народ <…> Говоря о Галиции, он одновременно имел в виду и Россию»[22]. Однако полное содержание самой рецензии и последующая полемика Чернышевского со славянофилами эту сомнительную экзегетику едва ли подтверждает. Автор статьи в «Современнике» все же выражался достаточно определенно и по конкретному поводу.
Ламанский, к тому времени уже сотрудничавший в славянофильских изданиях, откликнулся на статью Чернышевского в аксаковской газете «День». Имя Чернышевского в статье Ламанского не упоминалось, поскольку в «Современнике» статья была опубликована без указания автора. Умалчивал о нем и И. С. Аксаков, предваривший публикацию Ламанского редакторским примечанием. Статья в «Современнике», осуждающая стремление галичан писать русским литературным языком, была перепечатана в Австрии на немецком и польском языках. Этот факт не меньше, чем содержание самой статьи побудил И. С. Аксакова опубликовать ответ на нее. И. С. Аксаков хотел продемонстрировать иную оценку происходящих в русских землях Австро-Венгрии процессов и поддержать ориентированных на Россию русинов. «Письма, полученные нами из Вены, живо изображают душевную скорбь галичан, обруганных и осмеянных в России и за сочувствие к России!» – признавался он[23]. «У галицийских руссов, – писал редактор, – только одно стремление – примкнуть к общей русской семье, слиться с нею в одно целое, если не политически, так духовно: поэтому они всячески стараются усвоить себе наш русский литературный язык, считают нашу литературу своею, изучают ее, гордятся Пушкиным, как своим собственным поэтом и проч.»[24]. Статья Чернышевского, напротив, оправдывала национальную политику австрийских властей, старающихся противостоять ополячиванию русинов в Галиции тем, чтобы «в галицийских русских возбуждать чувство племенной малороссийской особности, и враждебности к великорусской стихии»[25]. «По его мнению, – пишет о позиции И. С. Аксакова Е. П. Емельянов, – статья Чернышевского представляла собой польский голос на страницах русского журнала и соответствовала польским национальным интересам, заключавшимся в ликвидации русского влияния в Галиции»[26]. Ненависть к русской народности и славянофильству, был убежден И. С. Аксаков, сближают революционеров (Чернышевского), либералов-западников и правительственную верхушку[27]. Заданная в редакторском примечании экспозиция была содержательно развернута в тексте Ламанского.
Прежде всего Ламанский увидел в критикуемой статье незнание того материала, которому она была посвящена. Дилетантизм автора в вопросах истории славянства, истории славянских языков и знания самих этих языков и побудил его откликнуться на публикацию в «Современнике». Он объявляет статью мистификацией, поскольку уверен, что ее автор не жил среди малороссиян, не знает языка, обычаев и т. п. «Но как же можно, не зная народа и его языка, толковать так смело и резко об его характере, обычаях, нравах?» – вопрошал Ламанский[28]. «Ложь и обман тут очевидны», – заключал он[29]. По мнению критика, автор статьи или прикидывается плохим знатоком Малороссии или же притворяется ее страстным любителем. Более того, Ламанский не верит в искренность восхищения другим народом без утраты собственной народности. «Своя народность всякому ближе, понятнее, симпатичнее», – пишет он[30]. Ассимиляционные процессы, происходящие в многонациональных государствах, не могут «служить свидетельством симпатичности или очаровательности того или другого племени»[31]. Так, обрусению инородцев в России, онемечиванию поляков в Пруссии, ополячиванию малорусов в Польше и на Украине не стоит приписывать абсолютное значение и из них выводить характеристики народов. Современность дает немало примеров и противоположных фактов: сохранения своей народности поляками и раскольниками в Малороссии. Ламанский отмечает недобросовестность автора статьи, его «резкие и оскорбительные выходки» и «полное презрение к народу». Статья служит примером «сочетания слабости мышления с крайним самодовольством и самомнением».
На территории австрийской Галиции идет интенсивное ополячивание русского населения, приводящее к утрате народности. Историсофская оптика, сквозь которую Ламанский воспринимает происходящие на западе русского мира процессы, задает конфронтационный взгляд на прошлое и настоящее. В истории он видит этнологическую борьбу, прежде всего, германцев и славян. Этот историософский конфликт определяет историческую и культурную судьбу Среднего мира. Отголоском ее является ассимиляция русинов в Австро-Венгрии. Однако она включает в себя еще и вероисповедное противостояние. Католицизм исторически служил средством подавления народного начала у славян, поскольку отказывал славянам в возможности проводить богослужение на родном языке. Для Ламанского главной исторической, культуросозидающей и даже геополитической силой выступает язык. Недаром в его философско-исторической концепции конфликт цивилизаций проявляется, прежде всего, в соперничестве языков за распространение и влияние в мире. Поэтому-то так болезненно он реагировал на призыв Чернышевского отказаться от распространения русского литературного языка среди русинов. «При всей своей тяжести, борьба малороссиян с поляками, – замечал он, – все таки гораздо легче борьбы поляков с немцами. Хотя и прежде просветительное начало Малороссии всегда было выше просветительного начала Польши, но в былое время она стояла гораздо ниже Польши относительно внешней образованности. В настоящее время, когда для Малой и Великой Руси обоюдными их усилиями уже выработан один общий литературный язык, русская литература и образованность, при всей своей недостаточности, все таки и богаче и серьезнее польской»[32]. По той же причине Ламанский делает странное, на первый взгляд, утверждение: «Говоря откровенно, мы не понимаем значенья слов: малорусский, а следовательно и великорусский патриотизм, мы еще можем допустить русский патриотизм; хотя, признаемся, всячески бы желали избегать употребления слов: патриот, патриотизм»[33]. Любой региональный или местный патриотизм при всей его положительной мобилизующей силе, служит средством обособления и утверждает патрикуляризм у славян, в то время как историческая задача славянства состоит в соединении для выработки самобытной культуры и противостоянии (литературном, культурном, в первую очередь) миру германо-романскому.
Впрочем, Ламанский не видит перспектив у ассимиляционной политики австрийского правительства. Численное преобладание славян в Австро-Венгрии, по его мнению, должно привести к перерождению самого государства и его постепенному ославяниванию. В этом его взгляды совпадали с ожиданиями чешской интеллигенции, представителями чешского национального возрождения. «Скажем откровенно, – признавался он, – мы даже вовсе не верим в будущее немецкой народности в Австрии, уверены, что славяне с нею справятся и под конец подчинят ее своей образованности, конечно если только забудут свои домашние распри и утвердят единодушием, общеславянской образованностью»[34]. Под общеславянской образованностью Ламанский разумел принятие русского языка в качестве литературного, дипломатического и научного всеми славянскими народами. Через год Ламанский получил возможность посетить славянские земли. Его командировка с научными целями продлилась два с половиной года. Она не поколебала его убеждения в необходимости распространять русский литературный язык среди славян, но показала, что процесс онемечивания среди австрийских славян зашел уже далеко и культурное (языковое) объединение славян казалось ему уже не столь очевидным.
В этой же статье Ламанский сочувственно отзывался об издававшемся в Санкт-Петербурге украинофильском журнале «Основа»: «Мы глубоко уважаем благородную редакцию этого журнала, чрезвычайно рады его появлению в нашей литературе»[35]. В то же время он не был готов согласиться с редакционной политикой по всем вопросам. «Наше разногласие в некоторых взглядах с этим журналом никак не может ослабить нашего сочувствия и уважения к нему», – добавлял он[36]. Признание Ламанского показывает, что современники воспринимали украинофильство в качестве разновидности славянофильского направления. Ламанский не видел принципиальных расхождений между славянофильством и украинофильством. Так же точно и представители украинофильства соглашались с позицией Ламанского о единстве литературного языка для Великороссии и Малороссии. Например, М. П. Драгоманов считал мнение Ламанского о возможности самостоятельной «малорусской словесности» при сохранении и развитии русского литературного языка «самой верной и практичной точкой зрения»[37]. В то же время еще при жизни Ламанского пути украинофильства и славянофильства существенно разошлись. Если в начале 1860-х гг., т. е. на исходе «раннего славянофильства», он еще мог усмотреть их идейное родство, то позднее высказывался об украинофильстве значительно более критично и даже полемизировал с М. П. Драгомановым на страницах «Известий Санкт-Петербургского славянского благотворительного общества». Идеологию украинофильства более точно можно охарактеризовать как вариант областнической программы, вписывая его в ряд таких общественных движений и учений, как сибирское областничество, российское областничество (федералистские концепции русской истории, «Камско-Волжская газета», казачий автономизм), западноруссизм.
Принципиальным для Ламанского оставалось единство трех ветвей русского народа. «Малоруссы и великорусы с белорусами, – писал он, – при всех своих частных разногласиях, обоюдных несходствах и насмешках друг над другом, образуют один русский народ, единую Русскую землю, плотно, неразрывно связанную одним знаменем веры и гражданских убеждений. Основная сила России, ее ядро и тяга, крестьянство средней и северной России, Сибири, Новороссийского края, под словами: Святая Русь, земля Святорусская – всегда разумеет и старый Киев с его областью. Славный Киев живет глубоко в сознании нашего народа, в его поэтических преданиях, на всем великорусском просторе»[38]. Единство народа проявляется прежде всего в общности литературного языка. В быту, у себя дома славяне могут говорить на своих местных наречиях, а вот писать, читать, обучаться в учебных заведениях должны на одном языке. Успешным примером подобной языковой политики для Ламанского служили образования итальянского и немецкого литературных языков, когда в качестве литературного языка было выбрано одно из провинциальных наречий. Главный критерий при таком выборе должен состоять в литературном развитии такого наречия, в богатстве и мировом значении созданной на этом языке литературы. Среди современных ему славянских языков на эту роль мог претендовать только русский язык. Это, полагал Ламанский, верно для всех славян, тем более верно оно для ответвлений русского племени.
Без языкового единства ставится под сомнение и политическая целостность государства. Верно и обратное: принятие западными и южными славянами русского языка в качестве литературного, научного и дипломатического, со временем поставит вопрос и о форме политического единства славян. В обособлении малорусского наречия, к которому призывал Чернышевский, Ламанский видел угрозу как политическому, так и народному единству русского племени. «Отнятие от России Киева с его областью повело бы к разложению русской народности, к распадению и разделу Русской земли», – предупреждал он[39]. Более того, «всякие попытки отторгнуть напр. Киев от России, вызовут такие бедствия и несчастия, последствия которых нельзя предвидеть»[40]. Пророчества Ламанского опирались на философско-исторический анализ славянской истории и культуры. Историософия Ламанского футурологична. Самым известным его предвидением, пожалуй, является описание хода будущей мировой войны, сделанное за четверть века до самого события. Наиболее полно оно выражено в трактате «Три мира Азийско-Европейского материка» (1892). Однако сохранение российской государственности нужно не одному русскому народу. Русское государство, по мысли Ламанского, является подмогой для борьбы славянской стихии с германством (чехов в Австрии и поляков в Пруссии). «Не в одних русских видах, но для блага всего славянства обязаны мы соблюдать целостность и единство Русской земли!» – отмечал он[41].
Надо заметить, что упрекая Чернышевского в том, что он не жил в Малороссии, тем более непосредственно не знаком с ситуацией в Прикарпатской Руси, Ламанский должен был сознавать, что и его собственные познания столь же далеки от жизненной практики. Он и сам не бывал в Галиции, а судил о положении русинов так же априорно, как и Чернышевский. Возможно, Ламанский в большей степени, чем Чернышевским следил за современными публикациями об австрийских славянах, поскольку это входило в круг его профессиональных интересов, но все его выводы оставались чисто кабинетными рассуждениями. Ко времени полемики Ламанский опубликовал лишь одну работу о Галицкой Руси – компиляцию «Этнографический очерк восточной Галиции. Статья г. Циммермана», которая вышла в «Вестнике Императорского Русского географического общества» в 1859 г. анонимно. «Народонаселение Греко-восточного вероисповедания занимает большую часть восточной Галиции и известно под именем Русинов, которые по местностям снова подразделяются на Подуляков, Покутян. Гукулов, Горалов и т. д.», – писал Ламанский[42]. Конечно, даже конспективное изложение содержания статьи Циммермана из «Известий Венского географического общества» (Mitth. 1858. Helf 3) предполагало определенную авторскую интерпретацию. Свою позицию Ламанский обозначал в тексте интонационными знаками. Так, например, он воспроизводил характеристику русинов: «В настоящее время это спокойный мирный народ, довольно трудолюбивый, впрочем (?) медленный, тяжелый и крепко привязанный к своим нравам и обычаям, почему, несмотря на все усилия (!), они все еще находятся на низкой степени образованности»[43].
Основная часть статьи Циммермана была посвящена социально-экономической ситуации в австрийской Галиции. Ламанский воспроизвел ее основные положения. Он писал, что «крестьянство, это ядро народа, разоряется все более и более, и это самое природное, самое неизменное сословие стало здесь ордою, ищущею пропитания, пролетариатом, возвещающим будущего Атиллу, варварство и гибель»[44]. Значительно лучше австрийский автор отзывался о гуцулах, живущих в большей изоляции, чем русины, а значит и меньше подвергающихся ассимиляции и десоциализации. Гуцулы «кажется особенно твердо сохраняют свои нравы и обычаи, тогда как на равнинах водка нравственно убила мужиков, потому то, живя вместе в деревне, они днем и ночью подчинены искушениям евреев, тогда как горец, живя замкнуто, вдали от соблазна, только в праздники сходит в церковь в деревню»[45]. «В Галиции, – продолжал автор, – есть целый класс людей, который издавна глядит, сложа руки, как их собратья тяжелым трудом добывают хлеб исключительно в их пользу. Это – евреи, люди, боящиеся тяжелого труда, живущие собственно говоря в праздности, образующее в стране относительно своих жилищ огромное большинство, вечно плутующие, добывающие барыши без работы, постоянно бегающие службы и всех общественных предприятий. Из догматического стремления стараясь переполнить этот край денными ворами, сами они бьются из всех сил образовать в стране денежную аристократию и несвоевременными ссудами закабалить себе всех жителей – это же положение, невыносимое для остальной части населения, не может быть желательно»[46]. Носителями здорового национального сознания русского населения Галиции являются крестьяне, их смиренный труд и сельский образ жизни обеспечивает поддержание национальной идентичности. «Государства земледельческие во все периоды истории всегда занимали первое место, наслаждались цветущим благосостоянием и жители их с своим здоровым трудом на вольном воздухе всегда были самыми мирными людьми», – замечал Ламанский[47]. Однако разорение крестьянства и ассимиляционная политика властей приводят к люмпенизации населения и, как следствие, утрате народности, традиционных ценностей, привычного образа жизни. Деформируется и сознание людей: чувство социальной несправедливости и национальной обиды стимулирует агрессивное поведение и способно привести к социальному взрыву, который примет формы насилия на национальной почве. Если национальное чувство русинов будет и дальше определяться той ненормальной ситуацией, которая сложилась на крайнем западе русского мира, то, по словам Ламанского, не стоит удивляться, когда «пробужденное человеческое достоинство в полноте сознания удовлетворяется только трупами своих палачей»[48].
В статье, опубликованной в газете «День», Ламанский не предпринял детального критического разбора публикации Чернышевского. Статья стала для него поводом высказать ряд собственных суждений не только по русинскому вопросу. В своем критическом отзыве он поместил очерк формирования русского литературного языка, чтобы показать, что современный русский литературный язык во многом создавался в течение XVII–XVIII вв. выходцами из южнорусских и западнорусских земель в качестве общего письменного языка для нынешних великорусов, малорусов и белорусов. Отречение от него нанесет вред прежде всего самим малорусам тем, что значительно понизит культурный уровень населения и отвернет его от его собственной истории. «Русский литературный язык, – писал Ламанский, – образован не со вчерашнего дня и не Ломоносовым, который его только точнее определил и усовершенствовал. В основе своей великорусский язык наш принадлежит одинаково в значительной мере и малороссиянам. Отказавшись от него, они бы отказались от значительной части своего прошедшего, своей истории и все-таки не успели образовать на своем наречии такой литературы, которая бы им сделала излишней литературу русскую. Отказавшись от русской образованности, они принуждены были бы примкнуть к польской, с которою тоже словесность малорусская не сравняется. Пока же малорусы не создадут своей образованности на своем наречии, до тех пор должны они учиться и писать или на русском или на польском языке. Но выбор последнего возможен для Малороссии только с принятием католицизма, возобновлением Унии…»[49].
В основе письменного языка великорусов и малорусов лежит общий элемент – язык церковнославянский. До конца XIV в. различия в живом народном языке южной и северной Руси были ничтожны, а единство письменного языка сохранялось. Более того, если воспользоваться современной терминологией, то русский язык подвергся сильной украинизации. Почти четверть века спустя после полемики с Чернышевским, Ламанский вновь писал о русском литературном языке как общим для восточных славян. «Наш литературный язык, – замечал он, – возник и развился на основе церковно-славянского письменного языка. Как русское государство сложилось и крепло общими совокупными усилиями всех частей обширной Руси, южной и северной, восточной и западной, так и наш могучий литературный язык и наша дорогая словесность в течение веков слагались дружными общими трудами малорусских, белорусских и великорусских писателей, художников и ученых, духовных и светских. Все они незаметно вносили в общую сокровищницу национального языка слова и обороты, различные, часто неуловимые тонкости и особенности своих местных наречий, поднаречий и говоров»[50]. Воздействие малорусских писателей и церковных деятелей было особенно заметно, порой доходя в некоторых областях до откровенного засилья. «Огромное, непосредственное влияние имели на язык наши южно-русские ученые и писатели с конца XVII в. почти до самого Ломоносова. Малорусы господствовали тогда у нас в иерархии, в школе и образованности. Они, по-видимому, имели все средства образовать русский литературный язык на малороссийской основе. История решила иначе. Уроженец Двинской земли, коренной новгородец, Ломоносов принял наречие московское, но в то же время признал всю законность и необходимость общего элемента, Ц. славянского. Для дальнейшего развития нашего языка имели огромное значение многие даровитые писатели из малороссов и один гениальный – Гоголь. Итак наш литературный язык нынешним своим видом обязан общим, совокупным усилиям велико-мало-руссов. Он есть плод исторической жизни всего русского народа. Признаемся, мысль о возможности особой Малорусской литературы (а не местной словесности) представляется нам величайшею нелепостью»[51]. Впрочем, спорить о языковом влиянии и литературном первородстве русского и украинского языков бессмысленно, поскольку русский литературный язык формировался в качестве общего языка. На русском языке, замечал Ламанский, писали Капнист, Островьяненко, Балугьянский, Лодий, Венелин, Гребенка, Гоголь, Кулиш, Костомаров. Шевченко вел на русском языке свой дневник. Ламанский допускает «малорусскую словесность» лишь в быту, в качестве языка домашнего общения. Литературным же языком, языком образования и науки должен быть русский язык. «В противном же случае русскому народу в Галиции и Венгрии придется вовсе остаться без науки и образованности или принять органом языки немецкий, польский и мадьярский. Тот и другой выбор повлечет за собою утрату народности», – заключал Ламанский[52].
Общий вывод Ламанского о статье Чернышевского сводится к тому, что рецензент «Современника» «незнаком ни с историею, ни с современным положением русинов» и очевидно «не понимал всей важности русинского вопроса»[53]. Впрочем, он видел и положительную силу такой публикации, так как в ней в полной мере была высказана определенная точка зрения, которую можно критиковать. «Ложь не долговечна. Формулируясь и определяясь, она обличает себя», – выносил Ламанский свой приговор[54]. Ламанский сходился с Чернышевским, пожалуй, лишь в одном: он не признавал национальную самобытность галицийских русинов, считая их отторгнутою от основной массы частью русского народа, в то время как Чернышевский относил их к «малорусскому племени».
В следующих двух номерах газеты «День» была напечатана статья слависта, профессора Харьковского университета П. А. Лавровского «О русских в Галиции»[55], которая также была откликом на статью Чернышевского. Очерк П. А. Лавровского знакомил читателей с историей русского населения Галиции, которую столь превратно истолковал автор «Современника». Он отмечал, что автор статьи не обладает ни достаточными знаниями, ни пониманием вопроса и обратился к газете «Слово» случайным образом, поскольку пишет лишь о двух первых номерах, в то время как уже вышло пятьдесят номеров газеты. В первой статье П. А. Лавровский рассматривал положение русинов под властью поляков, второй – австрийцев. Он указывал на факты покровительства австрийских властей русскому языку и униатской церкви. Рассматривая отношение Польши и Австрии к русинам, он писал: «…последняя не раз обращалась к ним с приветливостью, и как ни рассчитана была эта приветливость, как ни своекорыстен был всегда источник ее, но она не прошла без важной пользы для галицко-русского народа; тогда как другая сторона относилась к нему до последнего времени постоянно не благосклонно, чтобы не сказать более»[56]. Чернышевский, полагал критик, подразумевает, что поляки и русские имеют то общее, что сближает их и со всяким другим народом, т. е. общечеловеческое. «А мы желали бы гораздо большего, – уточнял П. А. Лавровский, – мы желали бы искренно иметь с ними то единение, родственное, братское, к какому призывает нас родство языка и происхождения; в наших глазах – одною не из последних целей жизни нашей должно быть обоюдное изглаживание старых соплеменных столкновений, в которых мы не виноваты, и заменение их тем равноправным братским сближением»[57].
В пятом номере газеты «День» была опубликована корреспонденция униатского священника И. И. Раковского, бывшего редактора «Церковной газеты» в Будине «Голос из Угорской Руси о русском языке». И. И. Раковский призывал «принять Великороссийский язык для распространения народного просвещения. <…> мы не понимаем тех, – писал он, – которые вступаются за отдельное какое-либо Русское наречие или поднаречие. <…> Теперь, по-видимому, все стремится к единству, а не к разъединению. Можно сказать, что в нынешнее время, только три языка пользуются мировым значением, именно немецкий, французский и английский. После сих великорусский язык имеет полное право на название мирового языка»[58]. Мысли И. И. Раковского были близки Ламанскому, в частности, развиваемому им впоследствии учению о языке как геополитической силе. Статьи Ламанского и Лавровского были призваны показать историческое родство галицийских русинов с русским народом и обосновать культурно-историческое право языка русинов ориентироваться на русский литературный язык.
В ноябре-декабре 1861 г. аксаковская газета еще дважды обращалась к русинскому вопросу. В декабре было опубликовано «Прошение русских выборных людей в Вене о сохранении прав русского народа относительно его языка, представленное государственному министру 30 сентября 1861 года»[59], а в № 6 газеты «День» была перепечатана корреспонденция из «Слова» в защиту русской народности в Холмском крае. Предисловие к этой републикации написал А. Ф. Гильфердинг. «Мы позволяем себе только выразить скромное желание, чтобы Россия, с которою связан Холмский край вместе с остальным Царством Польским, обратила внимание на то, что там живет русский народ и озаботилась о нравственных его трудах, о его нравственном воссоединении с Русскою землею», – призывал он[60]. Славянофилы не равнодушно относились к процессам, происходящим в русской Галиции, и принимали посильное участие в национальном возрождении русинов. Фактологическая сторона и содержательная интерпретация контактов славянофилов с деятелями русофильского движения в Галиции уже рассматривалась в отечественной исследовательской литературе[61].
Статья Ламанского, вероятно, возымела тот эффект, на который рассчитывал издатель. Ее заметили, более того, она вызвала смятение в рядах оппонентов. В письме графине А. Д. Блудовой 27 октября 1861 г. И. С. Аксаков признавался: «Ну уж если бы вы знали, как разозлились на меня и на Ламанского – хохлы и Поляки. У них в этих случаях всегда одна уловка – прикидываться лежачими, беззащитными, говорить, что им отвечать нельзя, опасно, что мы угождаем силе, и что статья Ламанского – донос, а я – хочу распалить вражду и т. п. Как бы не вздумали, в самом деле, как-нибудь их преследовать»[62]. В доносе, о котором упоминает И. С. Аксаков, Ламанского обвинил Н. И. Костомаров[63], а вслед за ним в полемику включился и украинофильский журнал «Основа», отстаивавший самостоятельные литературные права украинского языка[64]. Ламанский едва ли, работая над статьей, помышлял об извете. Он старался не столько описывать и опровергать мнение автора «Современника» и его украинофильствующих адептов, сколько обозначить свою позицию и, опираясь на фактическую сторону дела, дать обобщенную картину формирования русского языка, его прошлого и чаемого им будущего.
Свое неудовлетворение статьей Ламанского высказал А. И. Герцен. «От статьи Ламанского, – писал он И. С. Аксакову, – ожидал я гораздо большего. Столько повторений и противоречий себе: так сбивчиво и слабо ничего доказывать невозможно. И недобросовестно так робеть перед “Основой” за то самое, за что называет “Совр<еменник>” лжецом, обманщиком! Зачем и допускать такие ругательства? За них воздадут семирицею…»[65].
Возмездие не заставило себя долго ждать. Уже в скором времени Чернышевский отплатил долг своим критикам, напечатав в «Современнике» статью «Народная бестолковость», играющая на понижение семантика заглавия которой отсылала к его предыдущей публикации. В новой статье он предпринял критический обзор первых номеров аксаковской газеты «День». Касаясь личности редактора, Чернышевский объявлял его славянофилом больше «по имени (еже басурманами зовутся по фамилии), по родству, по знакомству, чем по личной пропитанности их теориями. Он – человек, сочувствующий народу, сочувствующий всем славянским народам, – это прекрасно, но в этом еще нет славянофильства»[66]. Впрочем, предложенное Чернышевским определение славянофильства было далеко от реального содержания этого учения и славянофильской программы в целом. Разбирая редакторские статьи И. С. Аксакова и выступление Ламанского в защиту львовского «Слова», он выводил славянофильство «от неразумного увлечения мыслью, будто наша русская народность единственный чистый тип славянской народности, что они, наши славянофилы, представители образцового славянского народа»[67]. Чернышевский упрекал славянофилов в том, что они «сбились с толку в своих понятиях о русской народности и о согласии своих теорий с этой народностью»[68]. Подобную интерпретацию славянофильства было мудрено вывести из статей И. С. Аксакова и Ламанского. Она в большей мере отражала предвзятую позицию самого Чернышевского, чем соответствовала взглядам славянофилов. Досталось И. С. Аксакову и за свидетельство о постепенном нарастании сочувствия в русском обществе к идеям славянофилов, в том числе, К. С. Аксакова. Критик «Современника» упрекнул Ивана Сергеевича в «самохвальстве», а редакцию «Дня» в «совершенном забвении расчетов приличия и уместности»[69].
Значительная часть статьи Чернышевского была посвящена критике панславизма, пропаганду которого он усмотрел в газете «День». «А теперь, – писал он, – необузданные порывы воображения заставляют их говорить невообразимости и желать такого направления дел, которое одинаково было бы вредно и другим славянским племенам, и нам»[70]. Ламанский отстаивал не имперский панславизм, а идею «постепенного распространения “нравственного” влияния России»[71], прежде всего, посредством популяризации русского языка и культуры в славянских землях. Чернышевский же считал такой культурный панславизм бесполезным, как тщетны любые «увещания, не поддерживаемые штыками»[72]. По мнению Чернышевского, европейские государства только приветствуют прогрессивные начинания в России и желают всяческого добра славянам, а сопротивляются их освобождению из-под власти турок и немцев лишь из опасений усиления влияния России, «поглощения» ею Дунайских княжеств и «обращения Константинополя в русский губернский город»[73]. Война за освобождение славян настроит против России все западные державы и вынудит их поддержать Турцию. В этой ситуации, желая помочь славянам, обращался он к славянофилам, «вы положительно вредите освобождению турецких славян, возбуждая тревогу в западных державах»[74]. Чернышевский высказывал убеждение, что как только Россия перестанет участвовать в делах турецких и австрийских славян, они легко добьются освобождения, поскольку численно преобладают. Более того, заверение в помощи «поддерживает в самих славянах Австрийской империи гибельную для них беззаботность»[75], а «расслабляющая перспектива чужой помощи»[76] провоцирует славян к бездействию. Славяне, уверял Чернышевский, должны освободить сами себя; они будут «оскорблены» подмогой со стороны России. Вмешательство России неизбежно приведет к войне, а «война слишком обременительна для нас при нынешних обстоятельствах», она «означает остановку нашего внутреннего развития»[77]. Предлагаемый Чернышевским в статье итоговый рецепт освобождения славян выглядел следующим образом: «Любовь к славянским племенам состоит в том, чтобы желать им добра. Наше содействие не может быть им полезно, напротив, оно повредило бы им, возбуждая в Англии, Франции, Германии опасение, которое не допускало бы их освобождения. Любовь к ним требует от нас, чтобы мы откровенно говорили им: вы составляете несколько десятков миллионов человек; такому многочисленному населению не нужна никакая посторонняя помощь; довольно будет и того, если державы, которым нет прямой надобности быть вашими врагами, не будут противиться вашему освобождению. При этом условии вы сами легко можете одолеть прямых ваших врагов. <…> Наша помощь не нужна вам, была бы вредна вам. Да и нам самим было бы слишком тяжело воевать для вашего освобождения»[78].
Со своей стороны славянофилы не видели доброй воли западных государств в деле освобождения славян. Чернышевский же считал призывы славянофилов к борьбе с Западом «бессмысленными» и упрекал своих оппонентов в «эгоистическом расчете подчинить их (славян. – А. М.), – тут не желание добра им, а желание увеличить собственное могущество»[79].
Критик отмечал, что славянофилы «никак не могут рассуждать сообразно фактам и здравому смыслу»[80]. Однако статьи Ламанского и Лавровского, опубликованные в газете «День», приводили многочисленные факты, как раз опровергающие утверждения Чернышевского. Они состояли из фактов по преимуществу, были, скорее, статьями историческими, чем политическими. В ответной статье у Чернышевского была возможность показать, какие факты, обнародованные авторами «Дня», противоречат истории и действительности. Часть статьи, в которой Чернышевский отвечал Ламанскому, оказалась, пожалуй, самой слабой. Он приводил обширные цитаты из публикации Ламанского, но не предложил их содержательной критики, а лишь приписал Ламанскому желание обязать всех славян перейти на русский язык и перекрестить их в русскую веру. Без каких-либо дополнительных аргументов Чернышевский воспроизвел свой тезис об отдельности малорусской народности, к которой принадлежат и русины, а их мнение о своем русском происхождении вывел из «вредных сентиментальных внушений» славянофилов, стремящихся, на самом деле, их подчинить.
В ближайших публикациях «Современника» Чернышевский еще дважды упоминал Ламанского, причем с явным намерением нанести ему обиду. В первом случае он отмечал, что в своих рассуждениях о русском народе Ламанский «ровно ничего не знает о русском народе», а если бы знал, то меньше бы бранил немцев. Во втором случае издевательски «предлагал новое драгоценное соображение» о древних славянских поселениях в бассейне р. Миссисипи, явно намекая на магистерскую диссертацию Ламанского «О славянах в Малой Азии, в Африке и в Испании», незадолго до этого удостоенную Академией наук половинной Демидовской премии.
Свидетельства о Чернышевском в бумагах Ламанского встречаются редко. Менее чем через год, 5 мая 1862 г. он отбыл в свою первую и самую длительную заграничную командировку. Только теперь он вживую узнал «славянщину», свел знакомства со славянской интеллигенцией и учеными. Здесь он узнал о публикации на страницах «Современника» (1863. № 3–6) романа Чернышевского «Что делать?» В письме к родным он обращался с просьбой: «Напишите ради Бога о романе Черныш<евского>. Я всегда думал, что у Черныш<евского> нет ни малейшего художественного чувства, не токмо дарования. Если это правда, то роман должен это доказать делом»[81]. И вскоре, в июне 1863 г. писал из Вены младшему брату Константину (судебному следователю): «Ну-с, читал я роман Чернышевского, правда только первую часть. <…> Давно я не читал ничего безвкуснее и бездарнее. <…> Пустое умничанье, резонерство. Скупая мораль, в страшно безвкусном изложении. Что за характеры, это куклы, марионетки, изображающие по воле умника-автора пороки и добродетели. Я не говорю об относительной верности учения. Положим, что все это истина, но тем не менее пошло, скучно и бездарно, как все нравственные и моральные повести. <…> Человек с большим умом не дошел бы и сам до такого смешного, жалкого самохвальства (в предисловии. – А. М.). Криминалист мой любезный, ведь это своего рода уголовщина находить в таком романе даже какие-то художественные достоинства. Самые приемы и манера рассказа обличают величайшую бездарность. Герцен, напр<имер>, не великий художник, его, напр<имер>, роман <“>Кто виноват<”> тоже сильно страдает моралью, тенденциозностью; зато видишь по крайней мере острого, умного человека, бойкого рассказчика… часто оригинального наблюдателя. Я рад, что Черн<ышевский> написал этот роман. Сначала по глупости и обезъянству будут хвалить, а потом раскусят и увидят, в чем дело. И какое жалкое подражание фран<узским> романистам-социалистам»[82]. В своем неприятии идейных основ романа и отрицании его художественных достоинств Ламанский не был одинок[83].
Впоследствии, вероятно, Ламанский и Чернышевский больше не встречались в жизни и не пересекались на публицистическом поприще. О судьбе писателя Ламанский получал сведения уже только от А. Н. Пыпина. К русинскому же вопросу ему еще не раз приходилось обращаться, хотя Ламанский и не оставил крупных исследований об этом. Знакомство со славянскими землями подтвердило опасения Ламанского о пагубности украинофильской пропаганды среди галицийских русинов. По результатам своей первой поездки (1862–1864) он опубликовал несколько работ. В одной из них, брошюре «Национальности итальянская и славянская в политическом и литературном отношениях», Ламанский отмечал: «Опасаясь утраты Галиции, Австрия всячески старается возбудить в Галицийской Руси искусственное нерасположение к России. Она не щадит никаких усилий и пожертвований, чтобы распространять в Галицкой Руси учение, подобное тому, что малорусское племя своим природным характером и историею отличается от великорусского гораздо более, чем, например, поляки и чехи и т. п.»[84].
Сознавая важность русинского вопроса для сохранения единства русской народности и продвижения русского языка среди западных славян, Ламанский всерьез задумывался над возможностью переезда в Угорщину. «Наши отношения с русскими вождями в Галиции самые интимные, – писал он А. С. Аксакову 23 сентября 1866 г., – и Бог даст, время не далеко, когда мы утвердимся в Карпатах, а там, теперь и предсказать нельзя самому прозорливому человеку, что будет далее. Верно только, что наш час настал. За себя могу только сказать, что я брошу дом, родных и переселюсь непременно в Галицию. К той деятельности, которая начнется там для русских я чувствую особое влечение»[85]. Ламанский не удовлетворялся одной кабинетной работой, его всегда отличала жажда практического дела, к сожалению, так и не нашедшая удовлетворения и нужных форм. Бездействие и непонимание власти, столь сокрушавшее Ламанского, вынужден был сорок лет спустя вновь констатировать один из учеников Ламанского, Н. В. Ястребов. В начале XX в. он писал учителю из Праги (5/18 декабря 1901 г.) о недопустимости откладывать решение галицкого вопроса. По словам Н. В. Ястребова, «в Галиции, когда появится “русский” унив<ерситет>, Ак<адемия> Наук и прочее, будет создан для нас серьезный “малорусский” вопрос, м<ожет> б<ыть>, наши потомки увидят повторение истории сербо-хорв<атских> отношений в грандиоз<ных> размерах. И думается, что фраза о том, то “не пробил час”, прикрывает только немощь государственной мысли и воли»[86].
Два десятилетия спустя после полемики с Чернышевским Ламанский с горечью свидетельствовал, что ассимиляционные процессы в Галиции дали свои отрицательные плоды. Галицийская интеллигенция не только сменила русскую идентичность на польскую, но и заразилась агрессивной русофобией. «Известная часть галицийско-русской интеллигенции, – признавал Ламанский, – глядит на нас русских, на москалей, глазами чисто польскими. На наш взгляд, она не может, и не должна быть нами отделяема от поляков. Для нас это, действительно, gente Rutheni, natione Poloni. Это поляки же, только русского происхождения и восточного обряда. Есть же у нас поляки, сами себя называющие поляками православного исповедания. <…> Вражда известной галицийско-русской партии к России, от полного ее непонимания, объясняется пятисотлетним почти господством поляков в этой захудалой, оторванной еще в XIV в. от народного ядра, русской земле, продолжительным в ней хозяйничаньем евреев, иезуитов, австрийцев. Эта жалкая и приносящая вред только самой же захудалой, ополяченной русской интеллигенции, вражда вызывает в нас не столько негодование, сколько требует снисхождения и извинения. Надо еще удивляться и остается только радоваться и благодарить Бога, что в русской Галичине далеко не такова вся русская интеллигенция»[87]. Ламанский видел пагубность для самих поляков ассимиляции галицийских русинов и навязывания им антирусского мировоззрения, поскольку человеконенавистническая идеология разрушительна для народа и его культуры. «Но мы энергически протестуем против той системы действия, какую практикуют нынче Поляки в Восточной Галиции, и скорбим об этом, видя в этом доказательство, что, к несчастью, они остались прежние, ничего не забыли и ничему не научились. От этого поведения Поляков по отношению к русской народности в Галиции можно ожидать только вреда и печальных последствий для самих Поляков», – писал он в предисловии к изданию документов из венецианских архивов[88]. Полное представление о взглядах Ламанского на судьбу Галиции можно получить только в рамках его цивилизационной концепции и интерпретации «восточного вопроса», в частности[89].
Полемика между журналом «Современник» и газетой «День» показала, насколько плохо русская образованная публика знакома с русинским вопросом и готова на слово верить призывам радикального публициста. Статьи Ламанского и Лавровского знакомили с историей русинов и особенностями формирования русского литературного языка. Имела ли критика Ламанским Чернышевского какой-то результат или влияние? Скорее, нет. Статья Ламанского послужила славянофилам самоуспокоением в своей исторической и научной правоте. Сбылись лишь худшие опасения Ламанского, во многом подтверждающие верность его анализа и оценок.
Примечания
[1] Сладкевич Н. Г. К вопросу о полемике Н. Г. Чернышевского со славянофильской публицистикой // Вопросы истории. 1948. № 6. С. 71–79; Демченко А. А. Н. Г. Чернышевский и славянофилы: риски сближения // Научное обозрение: гуманитарные исследования. 2014. № 2. С. 26–37.
[2] Кантор В. К. «Срубленное древо жизни»: Судьба Николая Чернышевского. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. С. 8.
[3] Срезневский И. И. Записка об ученых трудах профессора В. И. Ламанского // Вече. СПб., 2017. Вып. 29. С. 200.
[4] СПФ АРАН. Ф. 35. Оп. 3. Ед. хр. 2. Л. 6.
[5] Там же. Л. 34 об.
[6] Там же.
[7] Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М. : Худож. лит., 1982. С. 188–189.
[8] Чернышевский Н. Г. [«Русская беседа» и славянофилы] // Сочинения: в 2 т. М.: Мысль, 1986. Т. 1. С. 405.
[9] СПФ АРАН. Ф. 35. Оп. 1. Ед. хр. 1189. Л. 20.
[10] Там же. Ед. хр. 1059. Л. 40.
[11] Письма разных лиц к В. И. Ламанскому. Сообщены О. В. Покровской // Русская мысль. 1915. Кн. XI. С. 127.
[12] СПФ АРАН. Ф. 35. Оп. 1. Ед. хр. 1059. Л. 40.
[13] Из переписки Н. И. Костомарова с В. И. Ламанским // Голос минувшего. 1917. № 1. С. 265–266.
[14] Михутина И. В. Украинский вопрос в России (конец XIX – начало XX века). М.: Ин-т славяноведения РАН, 2003. С. 33.
[15] Там же. С. 36.
[16] Чернышевский Н. Г. Национальная бестактность // Полное собрание сочинений: в 15 т. М.: Гос. изд-во худож. лит., 1950. Т. 7: Статьи 1860–1861 годов. С. 776.
[17] Там же. С. 786.
[18] Там же. С. 775.
[19] Там же. С. 780.
[20] Там же. С. 792.
[21] Там же. С. 787.
[22] Он Оя. Н. Г. Чернышевский и львовская газета «Слово»: к вопросу о лидерстве в освободительном движении русинов // Н. Г. Чернышевский: Статьи, исследования и материалы: сборник научных трудов / отв. ред. А. А. Демченко. Саратов: Техно-Декор, 2015. Вып. 20. С. 94.
[23] Ламанский В. И. Национальная бестактность // День. 1861. № 2. 21 окт. С. 15, примеч.
[24] Там же. С. 14, примеч.
[25] Там же.
[26] Емельянов Е. П. Национальный вопрос в переписке И. С. Аксакова и Н. И. Костомарова // Научный диалог. 2013. № 6 (18): История. Социология. Этнография. С. 23.
[27] Бадалян Д. А. «Колокол призывный»: Иван Аксаков в русской журналистике конца 1870-х – первой половины 1880-х годов. СПб.: Росток, 2016. С. 202.
[28] Ламанский В. И. Национальная бестактность. С. 15.
[29] Там же.
[30] Там же.
[31] Там же.
[32] Там же.
[33] Там же.
[34] Там же. С. 17.
[35] Там же.
[36] Там же. С. 18.
[37] Драгоманов М. П. Восточная политика Германии и обрусение // Драгоманов М. П. Политические сочинения. Т. I: Центр и окраины. М.: Тип. Т-ва П. Д. Сытина, 1908. С. 118–119.
[38] Ламанский В. И. Национальная бестактность. С. 17.
[39] Там же.
[40] Там же.
[41] Там же.
[42] [Ламанский В. И.] Этнографический очерк восточной Галиции. Статья г. Циммермана // Вестник Императорского Русского географического общества. 1859. Ч. XXVI. Отд. V. С. 83.
[43] Там же. С. 86.
[44] Там же. С. 88.
[45] Там же. С. 89.
[46] Там же. С. 91.
[47] Там же. С. 92.
[48] Там же. С. 90–91.
[49] Ламанский В. И. Национальная бестактность. С. 18.
[50] Ламанский В. И. Кирилло-Мефодиевская идея // Известия С.-Петербургского славянского благотворительного общества. 1885. № 4. С. 212.
[51] Ламанский В. И. Национальная бестактность. С. 18.
[52] Там же. С. 19.
[53] Там же. С. 17.
[54] Там же. С. 19.
[55] Лавровский П. О русских в Галиции (по поводу статьи «Национальная бестактность» в июльской книге Современника за 1861 г. отд. «Русская литература» С. 1–18) // День. 1861. № 3. 28 окт. С. 11–13; № 4. 4 нояб. С. 17–20; № 5. 11 нояб. С. 12–15; № 6. 18 нояб. С. 12–13.
[56] Лавровский П. О русских в Галиции (По поводу статьи «Национальная бестактность» и июльской книге Современника, за 1861 год) // День. 1861. 18 нояб. № 6. С. 13.
[57] Там же. С. 13.
[58] Голос из Угорской Руси о русском языке // День. 1861. № 5. 11 нояб. С. 10.
[59] Прошение русских выборных людей в Вене о сохранении прав русского народа относительно его языка, представленное государственному министру 30 сентября 1861 года // День. 1861. 9 декабря. № 9. С. 11–14.
[60] Гильфердинг А. Из Холма // День. 1861. 18 ноября. № 6. С. 10.
[61] Дьяков В. А. Славянский вопрос в общественной жизни дореволюционной России. М.: Наука, 1993. 205 с.; Пашаева Н. М. Очерки истории русского движения в Галичине. XIX–XX вв. М.: ГПИБР, 2001. 201 с.; Миллер А. И.: 1) Внешний фактор в формировании национальной идентичности галицких русинов // Австро-Венгрия: интеграционные процессы и национальная специфика / под ред. О. В. Хвановой. М., 1997. С. 68–74; 2) «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.). СПб.: Алетейя, 2000. 206 с.; Топильский А. Г. Влияние славянофильства на русофильское движение в Галиции в контексте российской и австрийской политики в 60-х гг. XIX в. // Вестник Тамбовского ун-та. Серия «Гуманитарные науки». 2016. Т. 21, вып. 3–4. С. 110–114; Минаков А. Ю. Украинская болезнь: диагноз русских консерваторов // Тетради по консерватизму. 2016. № 3. С. 115–122.
[62] Цит. по: Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1904. Кн. XVIII. С. 136.
[63] 2–3 ноября 1861 г. И. С. Аксаков писал Ламанскому: «В своем письме он (Костомаров. – А. М.) называет статью вашу доносом, актом угодливости силе и проч.» (Переписка двух славянофилов // Русская мысль. 1916. Кн. XII. С. 109).
[64] Основа. 1862. № 3.
[65] Письмо А. И. Герцена И. С. Аксакову // Литературное наследство. 1941. Т. 39. С. 247–264. С. 252.
[66] Чернышевский Н. Г. Народная бестолковость // Полное собрание сочинений: в 15 т. М. : Гос. изд-во худож. лит., 1950. Т. 7: Статьи 1860–1861 годов. С. 828.
[67] Там же. С. 848.
[68] Там же.
[69] Там же. С. 832.
[70] Там же. С. 833.
[71] Саприкина О. В. Академик В. И. Ламанский (1833–1914): научное наследие и общественная деятельность: автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2004. С. 21.
[72] Чернышевский Н. Г. Народная бестолковость. С. 837.
[73] Там же. С. 838.
[74] Там же.
[75] Там же.
[76] Там же. С. 839.
[77] Там же. С. 837.
[78] Там же. С. 841.
[79] Там же. С. 842.
[80] Там же. С. 841.
[81] СПФ АРАН. Ф. 35. Оп. 1. Ед. хр. 44. Л. 51.
[82] Там же. Л. 57–57 об.
[83] Вайсман М. И. Проблемы освещения романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?» в научной и критической литературе (1863–2010) // Вестник Пермского университета. Серия «Российская и зарубежная филология». 2011. Вып. 3. С. 130–138; Щербаков Д. А. Роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» в оценке публицистики и критики 1860-х годов // Вестник РГГУ. Серия «История. Филология. Культурология. Востоковедение». 2016. № 8. С. 50–53.
[84] Ламанский В. И. Национальности итальянская и славянская в политическом и литературном отношениях. СПб.: В тип. А. А. Краевского, 1865. С. 14.
[85] СПФ АРАН. Ф. 35. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 70–70 об.
[86] Там же. Ед. хр. 1606. Л. 102 об.–103.
[87] Ламанский А. И. О положении болгарских славянских дел с точки зрения историка и слависта // Известия Санкт-Петербургского славянского благотворительного общества. 1886. № 12. С. 559.
[88] Ламанский В. И. «Государственные тайны Венеции» (Secretes d’Etat de Venise et rapports de la République avec les Grecs, les Slaves et les Turcs au XVI siècle. Documents, extraits, notices et etudes. St.-Pétersbourg. 1884. (том в 65 листов убористой печати) 8) // Русь. 1883. 15 нояб. № 22. С. 33.
[89] Шульга М. А. «Русинский вопрос» и геополитические миры Владимира Ламанского // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2016. № 2. С. 15–26.
© Алексей Малинов, 2022
© НП «Русская культура», 2022