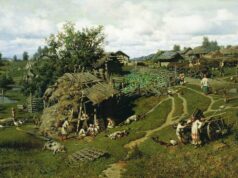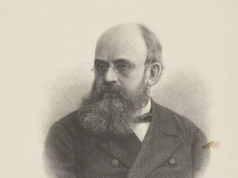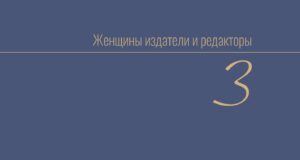Дело в том, что население всякой территории,
особенно если она крупная, желает не только
устранить недостатки своей общественной жизни,
но и вообще быть само творцом собственной судьбы.
Г. Н. Потанин. «Областническая тенденция в Сибири» (1907)
Историк К. Н. Бестужев-Рюмин в одной из популярных статей «Чему учит русская история» обратил внимание на «исторический закон»*. «Повинуясь великому историческому закону, – писал он, – объединение пошло от племени самого младшего и более смешанного: объединение Греции, хотя и неполное, совершила полуварварская, полугреческая Македония; объединение древней Италии шло из города, населенного выходцами всех италийских племен; новая Италия объединена не чисто итальянским Пьемонтом; Германия – немецкою украйною в землях, некогда славянских. Объединительное движение, начавшееся в таких пунктах, находит себе опору и в других областях, принимает к себе другие элементы и, видоизменяясь, становится общим делом. Так было и с суздальским движением: оно стало общерусским»[1]. Наблюдение историка едва ли можно назвать «законом», это, скорее, обобщение, характеризующее философско-историческую установку самого исследователя. К. Н. Бестужев-Рюмин, как известно, относил себя к последователям славянофильского учения, но по своему философско-историческому мировоззрению приближался к идеологии того общественного движения, которое принято называть «областничеством». И это не случайно, – формирование взглядов К. Н. Бестужева-Рюмина пришлось на те же годы, когда шло становление областничества.
Областничество возникло в Петербурге на рубеже 1850-х – 1860-х годов, когда в столице по разным обстоятельствам оказались историки Н. И. Костомаров, А. П. Щапов, К. Н. Бестужев-Рюмин, П. В. Павлов, вошедшие в историографию под рубрикой историков-федералистов[2], а также студенты и вольнослушатели Петербургского университета и других учебных заведений (Г. Н. Потанин, Н. С. Щукин, Н. М. Ядринцев, С. С. Шашков и др.), составившие сибирский земляческий кружок, из которого выросло сибирское областничество[3].
Выражение «идея областности» впервые встречается в работах А. П. Щапова 1850-х – 1860-х годов, однако термин «областничество» закрепился лишь к началу 1890-х гг., когда многих зачинателей этого учения уже не было в живых. Власть негативно реагировала на заявившее о себе новое движение и провозглашаемую им идеологию, обвиняя его последователей в сепаратизме. Клеймо сепаратистов (украинских, сибирских) на несколько десятилетий закрепилось за лидерами областников. К наиболее ранним попыткам самоопределения можно отнести выражение «местный патриотизм», используемое, например, Г. Н. Потаниным. «Областническая тенденция то же, что и местный патриотизм», – признавал Потанин[4].
Программа областничества была обращена к провинциальной интеллигенции и направлена на изменение ее сознания, а часто и на фактическое создание такой интеллигенции. Задачей интеллигенции, в понимании областников, было служение местным интересам, социально-экономическому, политическому и культурному развитию своего края. Синонимическими двойниками областничества, согласно его идеологам, могут выступать выражения «самодеятельность народа», «местное саморазвитие». В качестве влиятельного общественного течения областничество просуществовало более полувека, до начала 1920-х годов, а в эмигрантской среде – до Второй мировой войны. Вместе с этим, надо признать, что областнический проект еще не завершен, а областническая программа и полтора века спустя во многих положениях остается актуальной для России. Существующие исследования раскрывают фактическую сторону областнического движения, в то время как областническая теория еще требует своего более серьезного осмысления. Все это побуждает обратиться и по-новому взглянуть на областников, оценить выдвинутые ими идеи. Подтверждением востребованности областнической программы может служить и появившееся в последние два десятилетия неообластничество.
Областничество нельзя назвать в строгом смысле философским учением. Его последователи не были профессиональными философами. Более того, философская сторона учения областников крайне редко привлекала внимание исследователей. В качестве исключения здесь можно указать на работы А. В. Головинова[5] и Т.Н. Емельяновой[6]. В сочинениях областников едва ли стоит искать онтологию или теорию познания. В то же время, историки-областники смогли создать оригинальную философско-историческую концепцию, нашедшую отражение в работах А. П. Щапова, Н. И. Костомарова, К. Н. Бестужева-Рюмина. Социально-философское учение областничества представлено в сочинениях С. С. Шашкова, М. П. Драгоманова, В. И. Анучина. С. С. Шашкову же принадлежит серия публикаций по истории западноевропейской философии[7] и истории русской общественной мысли. Самобытные философско-культурологические идеи были высказаны Н. М. Ядринцевым и Г. Н. Потаниным. Предлагая общую модель эволюции культурных форм, Н. М. Ядринцев ввел понятие культур «переходного типа», под которыми подразумевал, прежде всего, лесные культуры. Вместе с Г. Н. Потаниным он впервые показал и обосновал цивилизационное своеобразие и ценность кочевого быта. Потаниным была предложена так называемая «восточная гипотеза», согласно которой большинство литературных и эпических сюжетов европейского средневековья, а также ряд религиозных представлений, были заимствованы из тюрко-монгольского мира. К культурологическому учению областников примыкает и идея «починочного характера» русской культуры, высказанная в ряде исторических трудов А. П. Щапова.
Наиболее заметны, конечно, достижения областников в других областях знаний: истории (А. П. Щапов, Н. И. Костомаров, К. Н. Бестужев-Рюмин, П. В. Павлов), этнографии и фольклористике (Н. М. Ядринцев, Г. Н. Потанин, которому принадлежит одно из наиболее полных собраний тюрко-монгольского фольклора), археологии (раскопки Н. М. Ядринцевым Каракорума – столицы империи Чингисхана), отчасти социологии. Областники одними из первых начали использовать статистику для анализа состояния современного им провинциального общества, были первыми организаторами провинциальных статистических комитетов. Н. М. Ядринцев в серии публицистических статей и фельетонов вывел яркие социальные типы сибирского общества (кулак, монополист, челдон, раскольник, «ташкентцы» или «летучая интеллигенция»). Наиболее успешно областники действовали на поприще журналистики. Областнические издания «Основа», «Камско-Волжская газета», «Восточное обозрение» и др. стали яркими явлениями отечественной пореформенной журналистики. Исследования и деятельность областников объективно способствовали становлению краеведения. Собственно говоря, краеведение обязано своим появлением провинциальной интеллигенции, чье сознание во многом было сформировано областнической публицистикой.
Областничество не было однородным движением и в различных регионах проявило себя по-разному. Родовым гнездом российского или великорусского областничества, вероятно, надо признать Поволжье. Уроженцами Нижегородской губернии были историки К. Н. Бестужев-Рюмин и П. В. Павлов. В Казани в 1872–1874 гг. выходило одно из лучших областнических изданий – «Камско-Волжская газета». Теоретическое наследие российского областничества представлено, прежде всего, философско-историческими построениями К. Н. Бестужева-Рюмина и П. В. Павлова, выступивших с критикой принципа централизации, на который опиралась историческая концепция «государственной школы» (С. М. Соловьев, Б. Н. Чичерин, К. Д. Кавелин). Разрабатывая альтернативный взгляд на русскую историю, К. Н. Бестужев-Рюмин и П. В. Павлов не только усматривали в русском историческом процессе развитие федеративного начала, но и заложили основы нового понимания задач самого исторического исследования. Согласно их взглядам, смысл русской истории не сводится к схематике собирания вокруг Москвы русских земель, а может быть понят только из изучения истории народа и истории его культуры. Федералистская установка в истории приводила и к смене акцентов в самом историческом исследовании с государства на область, народ и его культуру, что приводило к частичному отказу от политической истории в пользу истории цивилизации. Так формировалась проблематика и методология историко-цивилизационных исследований.
Украинское областничество можно связать с деятельностью «Кирилло-Мефодиевского общества» в Киеве (Т. Г. Шевченко, Н. И. Костомаров, П. А. Кулиш и др.); с последующими историческими работами Н. И. Костомарова, разделявшего федералистский взгляд на русскую историю и также формулировавшего программу историко-культурных исследований; и с работами М. П. Драгоманова. Историческая трагедия украинского областничества состояла в том, что активизировавшийся на рубеже XIX–ХХ веков украинский национализм и сепаратизм провозгласил теоретиков украинского областничества своими идейными предшественниками. Взгляд на украинское областничество сквозь человеконенавистническую идеологию украинского национализма существенно искажает восприятие и оценку этого движения, нивелирует гуманистическое и демократическое содержание самого областнического учения.
Западноруссизм получил обоснование в работах историка, профессора Санкт-Петербургской духовной академии М. О. Кояловича, близкого к славянофилам. Он является автором терминов «Западная Россия» и «западно-русские славяне». М. О. Кояловичу принадлежат работы «Историческое исследование о Западной России» (1865), «Лекции по истории Западной России» (1864), в которых он рассматривал западно-русских славян (белорусов) в качестве областного типа русского народа, а историю западно-русских земель как часть русской истории. Идеи западноруссизма получили развитие в трудах П. А. Безносова, К. А. Говорского, Е. Ф. Карского, П. Н. Жуковича, Г. Я. Киприановича, Л. М. Солоневича и др. Программу западноруссизма поддерживали некоторые издания: «Вестник Западной России», «Северо-западная жизнь», «Окраины России» и др. Для западноруссизма, как и в целом для областничества, была характерна критика националистической идеологии.
Наиболее плодотворным и в содержательном и в научном отношениях (и в этом смысле наиболее интересным) надо признать сибирское областничество. Если российское областничество в теоретическом и организационном плане оказалось довольно аморфным, то сибирские областники имели не только четкую программу, но и огранизационное оформление, – от землячеств до политических организаций в начале ХХ в. (Общество изучения Сибири и улучшения ее быта, Сибирское собрание, попытка открыть в Петербурге Дом Сибиряка и др.), в том числе и Сибирскую парламентскую группу в Государственной Думе, одно время даже объявившую себя сибирской фракцией. Особенно близки идеологии областничества оказались Сибирские парламентские группы в I и II Государственных Думах[8]. Тогда же сибирские областники начали выступать и с политическими требованиями «равноправия Сибири» и децентрализации управления. «Действительно, – писал в начале ХХ в. один из сторонников областничества, – планомерная работа над подробностями культурной и экономической жизни такого обширного края, как Сибирь, не может быть осуществляема из центра; единственное целесообразное решение вопроса может быть построено на принципе широкой децентрализации, на выделении вопросов местного законодательства в сферу компетенции областных учреждений»[9]. «Несомненно, – продолжат тот же автор, – что идея областной автономии Сибири имеет реальные основания и во внешних условиях ее быта, и в обостренной потребности широкой децентрализации законодательства. <…> для подавляющего большинства общественных деятелей Сибири идея областной автономии является естественным и логическим развитием понятного и близкого для широких кругов населения лозунга равноправия Сибири»[10]. Областники отмечали, что подъем Сибири, невозможный без ее политического пробуждения, необходим России в целом в перспективе неизбежных цивилизационных столкновений и трансформаций, которые произойдут на Востоке. Исторический опыт сибирского областничества, из всей совокупности областнических концепций и практик, представляется наиболее ценным для современной России, а их программа во многих своих аспектах – актуальной.
Лидеры сибирского областничества принадлежали к более молодому поколению, чем их украинские единомышленники. Сознание единства взглядов и убеждений способствовало как взаимодействию, так и формированию общих теоретических положений. В Петербургском университете Н. М. Ядринцев, Г. Н. Потанин и С. С. Шашков слушали лекции Н. И. Костомарова, а в начале 1870-х гг. печатались на страницах «Камско-Волжской газеты». В шенкурской ссылке Н. М. Ядринцев и С. С. Шашков оказались вместе с А. Н. Строниным, осужденным за просветительскую деятельность в областническом духе на Украине. Тем не менее, едва ли можно говорить о едином областническом движении и учении. Российское, украинское и сибирское областничество действовали достаточно автономно. Областнические идеи не были чужды и формировавшемуся самосознанию казачества. Сибирские областники, в частности, указывали на родственные настроения в среде уральских казаков. Схожие веяния отмечались и в Области Войска Донского[11]. Областничество можно обозначить как тенденцию, характерную для ряда регионов Российской империи второй половины XIX – начала ХХ века, связанную с ростом регионального самосознания и недовольством управленческими методами унитарного государства. И если казачьи области настаивали на сохранении или расширении автономии, украинские областники выступали за децентрализацию власти и культурную самостоятельность края, то сибирские областники открыто критиковали управленческую практику центра в отношении окраин, особенно Сибири, справедливо видя в этом проявление чисто колониальной политики.
Общим для всех направлений областничества можно считать последовательное отстаивание принципов федерализма в различных его формах (от автономизма и децентрализации до перехода к конфедеративному устройству государства). Наиболее же существенные различия в областничестве следует отметить в решении национального вопроса. Не случайно к украинофильству восходит конфронтационная идеология национализма, а сибирское областничество, напротив, разработало программу поддержки и развития сибирских инородцев[12], а также обосновывало неизбежность формирования особого «сибирского этнического типа» русского народа. Национальный вопрос недаром оказался столь важным для областнической программы. Областники были выходцами из регионов межэтнических, межкультурных и межрелигиозных контактов. Вопросы метисации населения, сохранения самобытной культуры, перспективы ассимиляционного (но взаимовыгодного) поглощения инородных национальных элементов, взращивание местной, в том числе и инородческой интеллигенции, – занимали не последнее место в учении областников.
Источники формирования областнической идеологии многообразны. Ближе всего к областничеству примыкают философские установки народничества. Долгое время в советской историографии содержательный анализ областничества (а не критически-разоблачительное или даже откровенно обличительное рассмотрение истории и деятельности областников) допускался лишь в рамках изучения народничества. Областники были знакомы и часто сотрудничали со многими представителями народничества (в большей степени это относится к сибирским областникам), однако областничество – это не разновидность народничества. Сближение с народничеством происходило на почве общедемократического мировоззрения и известной оппозиционности обоих движений. Философия областничества не противоречит учению народников, она просто обращается в основном к другим проблемам и темам. Так же, как и народники, областники ориентировались на философию позитивизма и близкие позитивизму естественнонаучные концепции. Наибольшее влияние здесь на философию областничества оказали учение Т. Г. Бокля и теории К. Бэра и Ч. Дарвина. Можно вспомнить, что первый русский перевод «Истории цивилизации в Англии» Т. Г. Бокля был сделан К. Н. Бестужевым-Рюминым. Принципы географического детерминизма и органицизма послужили основой для многих обобщений областнической идеологии и философских выводов. Сама идея «областной истории», реализованная в исторических трудах А. П. Щапова, исходила из принципа природно-климатической обусловленности социально-исторического развития. Колонизация, а не централизация, по мысли А. П. Щапова, выступала главным фактором образования русского государства.
Из органического единства «земли и воды», «города и села», по логике отношений целого и частей, складывалось русское государство. Отдельные земли и области, срастающиеся в государство, естественно различались не только в географическом, но и в этнографическом отношении. Колонизация приводила к смешению русского населения с финно-угорскими и тюрко-монгольскими народами. Следствием метисации стало формирование областных этнических типов русского народа (в частности, малорусского и сибирского). Активнее всего метисация происходила на окраинах государства. Так формировались областные этнические типы. Исходной формой исторической жизни русского народа была местно-областная. С периода Смутного времени преобладающей становится государственно-союзная форма. В качестве альтернативы процессу централизации в XVII в. А. П. Щапов рассматривал русский раскол старообрядчества. В культурной же истории России областники выделяли два этапа: «непосредственно-натуральный» или «инстинктивный» и «разумно-сознательный» или «рациональный» (с Петра I). С эпохи Петра I государство взяло на себя роль просвещения народа, в XIX в. эта задача переходит к интеллигенции. Иными словами, областничество сознавало себя прежде всего просветительским движением, призванным пробудить духовные силы народа. Философия же понималась ими как высшая форма народного самосознания, выразителем которого является интеллигенция.
В особенностях и различиях природно-климатической среды находил опору и сепаратистский потенциал областничества. Климат, настаивал Г. Н. Потанин, – «самый упорный сепаратист». «В климате Сибири прочный залог обособления сибирского населения, как в физическом, так и в духовном отношениях», – писал он в статье «Нужды Сибири» (1908)[13]. Г. Н. Потанин подчеркивал, что областничество является идеологией культурного самоопределения для русских жителей Сибири и инородцев, поэтому за областничеством он признавал лишь «культурный сепаратизм». Программные статьи Г. Н. Потанина «Областническая тенденция в Сибири» и «Нужды Сибири», опубликованные в 1907 и 1908 г., не столько формулировали программу сибирского областничества, к тому времени уже давно сложившуюся, сколько подводили известный итог. Тем интереснее заключение Г. Н. Потанина о неизбежности областного деления России. «Обширная территория, – отмечал он, – не может не расчлениться на отдельные области, хотя бы связь между ними и продолжала сохраняться. Это расчленение должно установиться не на этнографических, а на экономических особенностях в силу того, что физические условия в различных областях империи различны. Сибирь в ряду других областей, в которых проявляется стремление к областничеству или автономии, выделяется тем, что в ней эта идея не связывается и не связывалась с национальной идеей. Основа сибирской идеи чисто территориальная»[14].
Еще Н. М. Ядринцев в своем фундаментальном исследовании «Сибирь как колония» указывал, что масштабы Сибири вполне позволяют говорить о ней как об отдельном, самостоятельном континенте. «Сибирская идея», о которой пишет Г. Н. Потанин, – это результат становления сибирского самосознания, формирования особой региональной идентичности, признающей необходимость культурного и экономического саморазвития и самоопределения. Эффективно развиваться, управляясь из далеко расположенного центра, служить эгоистическим интересам этого центра, испытывая всю несправедливость колониальной политики, для Сибири далее невозможно. Г. Н. Потанин еще раз подчеркивает, что основой сибирства не может выступать национальный признак. «Сибирь, – писал он, – слишком большой придаток к территории Европейской России; русские люди, обитающие на этом придатке, не могут не чувствовать, что они живут в особых условиях. У территории Сибири, как ни сходна она во многих чертах с Европейской Россией, особенно с северной ее частью, все-таки свой физический организм, и люди, живущие в зависимости от этого особого организма, должны чувствовать солидарность между собой и в то же время чувствовать, что эта солидарность связывает их между собой прочнее, чем с жителями других областей империи. Цементом для такого сплочения областных жителей могут служить одни экономические и культурные интересы без национальной подкладки»[15].
Преодоление Сибирской особности и обособленности возможно при смещении цивилизационного центра в Сибирь. «Центр тяготения русского государства должен перейти на Сибирь», – провозглашал Г. Н. Потанин еще на заре формирования областничества. Но это означает формирование нового цивилизационного проекта. После высказывания Г. Н. Потанина становится понятна необоснованность обвинения сибирских областников в политическом сепаратизме и надуманность известного полицейского расследования «Об отделении Сибири от России» (1865), по результатам которого областники были отравлены на каторгу и в ссылку. Сепаратистские лозунги могли служить лишь средством привлечения внимания к проблемам Сибири и пробуждения местного самосознания. Политическая программа областников, напротив, содержала требование уравнения Сибири с европейскими провинциями и отказа от особых форм управления краем (что при определенных обстоятельствах как раз могло послужить основанием для политического обособления).
Любовь к своей малой родине даже тогда, когда она перерастала в политическое мировоззрение и принимала форму политической программы, не приводила Потанина и Ядринцева к противопоставлению сибирских вопросов общерусским. Как замечал Е. Колосов: «Огромная заслуга Потанина и Ядринцева в том и состоит, что они никогда не теряли из виду обще-человеческих, в частности, общерусских проблем»[16]. Проблемы, стоящие перед Сибирью, могут быть решены только в совокупности с проблемами общерусскими, т. е. общегосударственными. Прежде всего, это касается экономических и социальных вопросов. И здесь решения, предлагаемые областниками, могут послужить образцом и для остальных частей государства. Так, согласно Потанину, необходимо законодательно предоставить «областям возможность развивать энергию свойственной им, и особенно колониям, центробежной силы, не теряя солидарности с другими областями империи, не нуждаясь в отпадении от общегосударственного тела, – должны признать, что областническая тенденция, покоящаяся на экономическом соревновании частей государства, имеет право на столь же долгий срок существования, как само государство»[17].
Развитие регионов и конкуренция между ними в пределах одного государства – не только естественный процесс, но и стимул для дальнейшего развития. «Сибирские областники, – пояснял Потанин свой политический проект, – сознавая себя членами русского народа и не желая с ним порвать связь, распространяют свой идеал на все государство; они мечтают, что вся Россия будет разделена на области, что у каждой области будет свой парламент и свои министерства и что государственные финансы будут распределены между областями, а над всей этой федерацией будет стоять объединяющая Государственная Дума. Общегосударственные вопросы будут выделены из компетенции областных дум. Учредительное Собрание установит пределы, в которых будет происходить законодательная деятельность центральной думы и областных дум»[18]. В то же время он сознавал, что не только политическое устройство и, в меньшей степени, экономические связи объединяют Сибирь с европейской Россией в единое целое. «Мы понимаем, – признавался он, – что наша связь с Россией покоиться на русском языке, на русской литературе, на русских духовных традициях»[19]. Культурное развитие Сибири посредством формирования «культурных центров», политическое и экономическое выравнивание Сибири с европейской Россией вплоть до создания Соединенных штатов Сибири, – такой путь предпочитали лидеры сибирских областников. В этом их отличие от украинофилов, для которых национально-культурное самоопределение было важнее общегосударственного развития. Принцип равенства лежал в основе демократической программы областников.
Если попытаться вписать областничество в привычные координаты русской философии XIX в., то это, конечно, разновидность западничества. В приобщении к европейской культуре и знакомстве с европейской наукой, литературой и философией областники видели главный способ духовного развития народа. Европа, а на ранней стадии становления областнической идеологии и Америка, были для областников ориентиром цивилизационного развития. Непререкаемым личным и научным авторитетом среди сибирских областников пользовался К. Д. Кавелин. Однако как это, может быть, ни парадоксально звучит, в теоретическом плане большее влияние на областническую философию оказало славянофильство. Влияние это едва ли было прямым. В практическом отношении областники были сторонниками распространения земства как формы местного самоуправления, именно той формы, пропагандистами и подвижниками которой были славянофилы. Теснее всего славянофильство и областничество сходились на почве общих либеральных требований, в частности, свободы слова и вероисповедания. Но роднее всего областническому духу была идея культурного разнообразия и множественности путей культурно-исторического развития.
Напомню, что К. Н. Бестужев-Рюмин рассматривал свои философско-исторические построения как вариант развития славянофильской доктрины, а деятельность Кирилло-Мефодиевского общества в Киеве современники воспринимали как разновидность славянофильства, только малороссийского. В историографии неоднократно отмечалось влияние работ славянофильских историков В. Н. Лешкова и И. Д. Беляева на становление земско-областной теории А. П. Щапова. Из представителей позднего славянофильства, сибирские областники непосредственно пересекались, пожалуй, только с В. И. Ламанским в Русском географическом обществе. Возглавляя этнографический отдел Русского географического общества, В. И. Ламанский поддерживал начинания сибирских областников, а его позднее произведение – политико-географический трактат «Три мира Азийско-Европейского материка» (1892) – в целом ряде положений согласуется со взглядами областников. Сходство здесь во многом обусловлено не идеологической платформой, а общими концептуальными установками. В. И. Ламанский также исходил из принципов географического детерминизма и пришел к близким областникам взглядам на Сибирь. Особо хочется отметить предложенную В. И. Ламанским программу создания национальных школ и формирования национальной интеллигенции, критику политики русификации окраин, полностью совпадающие с требованиями областников.
Программа сибирского областничества или «сибирские вопросы» подразделялись на внешние или главные и внутренние вопросы. Внешние вопросы включали требование отмены ссылки в Сибирь. Уголовная ссылка развращающе действовала на сибирское население и в нравственном и в физическом отношениях. К внешним вопросам относилось и преодоление «мануфактурного ига» Москвы, превращающего Сибирь в рынок сбыта для не всегда качественных товаров, произведенных в Европейской части России, и препятствующее вывозу и сбыту сибирских товаров, в результате чего Сибирь оставалась лишь поставщиком сырья. Третий из «сибирских вопросов» – это вопрос о сибирской интеллигенции, решение которого областники связывали, прежде всего, с открытием Сибирского университета. Открытие университета в Сибири должно было приостановить отток молодежи из региона и способствовать формированию собственной сибирской интеллигенции.
К внутренним относились вопросы инородческий и переселенческий, связанный с вопросом о земельном фонде Сибири. Поддержка и развитие коренных народов Сибири, по мысли областников, должны были стать «средством гуманизации сибирского общества». Исторические, этнографические и статистические исследования сибирских инородцев, проведенные областниками, имели и большое научное значение. Помимо богатого историко-культурного, этнографического и фольклорного материала, собранного областниками, их работы во многих отношениях были пионерскими. Особенно это касается изучения кочевого быта и лесных культур, в качестве переходных форм к оседлости. К этим исследования примыкают и труды С. С. Шашкова по истории первобытной культуры. Переход инородцев к оседлости и усвоение более высокой, по оценки областников, русской культуры (прежде всего, земледельческой) будет способствовать интеграции коренного населения в сибирский этнографический тип русского народа. Решение переселенческого вопроса должно было послужить средством освоения и экономического развития Сибири.
В истории русского овладения Сибири можно указать несколько этапов. Сибирь была поочередно звероловной колонией, земледельческой, золотопромышленной, торговой. Первоначально Сибирь заселялась посредством вольно-народной колонизации, на смену которой пришла колонизация казенная. Ограничения на переезд в Сибирь, полагали областники, следует отменить. Свободный переезд в Сибирь должен заменить принудительную ссылку «нежелательных» или откровенно криминальных элементов. Снятие ограничений на переселение в Сибирь при создании прочих благоприятных условий развития края может отчасти снять остроту противоречий между центром и периферией.
Среди тем, поднятых сибирскими областниками, но не входящими в программу «сибирских вопросов», надо назвать «женское дело». Сибирские областники, пожалуй, одними из первых в России стали разрабатывать вопрос о роли женщин в распространении цивилизации. Монографии С. С. Шашкова «Историческая судьба женщины, детоубийство и проституция» (1871), «Очерк истории русской женщины» (1871), статьи А. П. Щапова и Н. М. Ядринцева содержали богатый фактический материал, интересные наблюдения и обобщения по женскому вопросу. Надо заметить, что в судьбе самих этих исследователей женщины играли очень значительную, а порой и трагическую роль.
Областничество стало новым выражением изначальной народно-областной формы жизни русского народа. Во многом оно было реакцией на управленческие методы унитарного государства и отражало рост регионального самосознания в ряде областей Российской империи. Носителем областнической идеологии стала зарождающаяся местная интеллигенция. Требования областников различались в зависимости от сложившихся местных особенностей. Так, областнические идеи, получившие поддержку в казачьей среде, ограничивались требованием сохранения или расширения автономии. Украинские областники, выступая за децентрализацию власти, предлагали широкую программу культурного развития края. Сибирские областники, критикуя управленческую практику центра, прямо указывали на колониальное положение Сибири и вытекающие из него негативные последствия для региона. Объединяло областников последовательное отстаивание принципов федерализма в различных вариантах: автономизма, децентрализации, конфедерации. Наиболее же заметные различия проявились в отношении к национальному вопросу. В украинофильстве постепенно возобладало стремление к этническому конструктивизму, переросшее в конфронтационную идеологию национализма. Сибирские областники, наоборот, видели в этническом разнообразии региона залог его дальнейшего развития, полагая, что процессы метисации приводят к формированию «сибирского этнического типа» русского народа. Сибирские областники предусматривали возможность создания автономий инородческого населения Сибири, изучали быт и культуру сибирских народов и разрабатывали программу их поддержки и развития. Областническая идеология встречала сочувствие на окраинах государства и в районах межэтнических, межкультурных и межрелигиозных контактов. Областники искали способы сохранения местных и национальных культур при неизбежных процессах метисации населения и культурной ассимиляции; изучали негативные и положительные последствия такого смешения; инициировали зарождение инородческой интеллигенции.
В истории русской мысли учение областников стоит особняком по отношению к теориям, определявшим идеологический облик XIX–XX вв. Точнее говоря, в областничестве можно найти аспекты и оттенки различных, часто противоречивых, концепций: западничества и славянофильства, радикализма народнического толка и консерватизма. Тем не менее, все это не делает из областничества эклектической теории, пользующейся противоречиями господствующих учений. Конечно, по отношению к этим учениям областничество выглядит маргинальным движением. Однако эта маргинальность задается историко-культурным взглядом, ранжирующим и сепарирующим теории по степени их значимости, устанавливающим основные и окказиональные учения по степени их влияния и востребованности. Областничество же сознательно выступало против политического, культурного, социального, а, значит, и исторического центризма. Областники намеренно противопоставляли периферию центру, провинцию – столице, считая себя выразителями интересов и потребностей именно провинциальной культуры.
Сибирское областничество как направление в русской общественной мысли и движение в среде провинциальной интеллигенции, или, по словам Г. Н. Потанина, «тенденция» нашла обозначение в таких терминах, как «сибирское областничество», «сибирефильство», «сибирство». В таком дублировании не было нужды, если бы эти термины были только синонимами. Сибирское областничество – историческое явление, просуществовавшее более полувека (с начала 1860-х гг. до окончания Гражданской войны, а в русской эмиграции – до Второй мировой войны). Возникнув как литературное и культурное движение зарождавшейся сибирской интеллигенции, оно лишь в годы Первой русской революции начало оформляться политически. Политическая активность сибирских областников усилилась в 1917 г., когда появились проекты федеративного устройства Сибири[20]. Однако доминирующей для сибирского областничества оставалась просветительская и культурная деятельность, что непосредственно сближало его с сибирефильством. Сибирефильство выходит за пределы только сибирской интеллигенции, предполагая в широком смысле изучение Сибири и стремление к развитию края. Сибирство – новая региональная идентичность, переходящая в политическое мировоззрение со всеми вытекающими из него потенциальными опасностями в виде политического обособления, конфронтационной идеологии и т. п. Истоки всех этих определений можно видеть в учении и деятельности Потанина; его фигура их всех объединяет. Этим опознается и его значение: он был родоначальником и лидером сибирских областников, деятельным сибирефилом, первым выразителем «сибирской идеи» – новой региональной идентичности, т. е. сибирства.
В заключении лишь отмечу, что в качестве исторического явления областничество, безусловно, уже состоялось, теоретическая же сторона областнического учения, его философская составляющая еще требуют осмысления, додумывания, а может быть и продолжения. Изолированное изучение украинского, сибирского и российского областничества малопродуктивно для понимания философских взглядов областников. Социально-философское и философско-историческое учение областничества может быть реконструировано только на основе сравнительного изучения наследия всех направлений областничества. Без знакомства с работами сибирских областников невозможно историческое изучение не только отечественного кочевниковедения и этнографии, но и евразийства.
Примечания
* Впервые опубликовано: Malinov A. Siberian Regionalism as a Phenomenon of Social Thought in late imperial Russia // Sibirica. 2024. Vol. 23. No. 2. P. 69–88. doi: 10.3167/sib.2024/230203
[1] Бестужев-Рюмин К. Н. Чему учит русская история // Древняя и новая Россия. Исторический иллюстрированный ежемесячный сборник. 1877. Т. I. С. 11.
[2] Боярченков В. В. Историки-федералисты: Концепция местной истории в русской мысли 20–70-хгодов XIX века. СПб., 2005.
[3] Малинов А. В. Сибирский земляческий кружок в Петербурге – первая организация сибирских областников // Областническая тенденция в русской философской и общественной мысли: К 150-летию сибирского областничества. СПб., 2010. С. 111–133.
[4] Бестужев-Рюмин К. Н. Чему учит русская история. С. 109; Потанин Г. Н. Будущее сибирской областнической тенденции // Сибирская жизнь. 1907. 6 июля. № 65. С. 2.
[5] Головинов А. В. Идеология сибирского областничества: социокультурные ценности и политические смыслы: учебное пособие. Барнаул, 2011; Головинов А. В. Отечественные истоки социальной философии областничества // Мысль. Журнал Петербургского философского общества. 2012. Вып. 12; Головинов А. В. Идеология сибирской свободы: этнокультурыне и политические идеи классиков областничества. Барнаул, 2012.
[6] Емельянова Т. Н. Областничество Н. М. Ядринцева как философия российской действительности. СПб., 2004.
[7] Малинов А. В. С. С. Шашков – историк западной философии // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки. 2012. № 3 (149).
[8] Барсуков В. Л. Сибирские депутаты Государственной Думы о месте Сибири в Российском государстве // Из прошлого Сибири. Вып. 2. Ч. 2. Новосибирск, 1996.
[9] Некрасов Н. В. Письма о национальностях и областях. Культурные и политические проблемы Сибири // Русская мысль. 1912. Кн. II. С. 111.
[10] Там же. С. 113.
[11] Братолюбова М. В. Идеи децентрализма и казачьей автономии Дона в требованиях либеральных политических организаций Области Войска Донского в начале ХХ века // Областническая тенденция в русской философской и общественной мысли: К 150-летию сибирского областничества. СПб., 2010.
[12] Коваляшкина Е. П. «Инородческий вопрос» в Сибири: концепция государственной политики и областническая мысль. Томск, 2004.
[13] Потанин Г. Н. Нужды Сибири // Сборник к 80-летию со дня рождения Григория Николаевича Потанина. Избранные статьи и биографический очерк. Томск, 1915. С. 57.
[14] Потанин Г. Н. Областническая тенденция в Сибири // Сборник к 80-летию со дня рождения Григория Николаевича Потанина. Избранные статьи и биографический очерк. Томск, 1915 С. 110.
[15] Потанин Г. Н. Нужды Сибири. С. 52–53.
[16] Колосов Е. Сибирские областники о пришлой и краевой интеллигенции // Сибирские записи. 1916. № 3. С. 213.
[17] Потанин Г. Н. Будущее сибирской областнической тенденции // Сибирская жизнь. 1907. 6 июля. № 65. С. 2.
[18] Потанин Г. Н. Прекрасный финал // Сибирские записки. 1917. № 3. С. 156.
[19] Там же. С. 154.
[20] В. К. Областное обозрение // Сибирские записки. 1917. № 3. С. 141–152.
В заставке использована картина Василия Верещагина «Камень Писанный на реке Чусовой», 1877
© Алексей Малинов, 2024, 2025
© НП «Русская культура», 2025