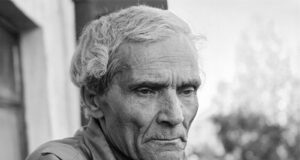…Помыслят потомки ревниво
Сквозь кружево блеклых чернил:
«Наверно, ОНА – любила.
Наверное, ОН – не любил?..».
Елена Ерофеева-Литвинская
***
Бывает ли на свете страстная, всепоглощающая любовь, которая существует только на бумаге, в письмах?
И единственный чувственный момент в ней – почерк дорогой руки, нажим увлажненного чернилами пера?
Оказывается, бывает.
Жизнь Надежды Филаретовны фон Мекк – тому подтверждение.
Она никогда не встречалась с человеком, которого обожала издалека – Петром Ильичом Чайковским, – но это была любовь всей ее чистой и достойной жизни.
Любовь поздняя.
Любовь, порожденная высоким строем душ близких людей.
Любовь в письмах, составивших три увесистых тома…
«Получаете ли Вы еще от кого-нибудь такие письма на пяти листах?» – как-то раз поинтересовалась она, втайне надеясь и предчувствуя, что, конечно же, нет. Ни от кого. Только от нее. От нее одной.
На этот вопрос фон Мекк Чайковский не ответил…
«Переписка, которая всякий раз влечет за собой, с одной стороны, уплату, а с другой – получение денег, не может быть безусловно искренна», – поначалу считал Чайковский. А считал так потому, что не мог и предполагать, что за личность Надежда Филаретовна фон Мекк, с которой он пока успел обменяться всего лишь несколькими письмами. И подозревать не мог, какие глубины человеческой природы откроются ему во вдове, матери многочисленного семейства, отличавшейся, на обывательский взгляд, от других лишь тем, что обладала баснословным богатством. Не верил, что такое возможно. И что такое выпало именно ему.
Чайковский еще не знал (потому и написал в 1879 году: «Я верю, что придет и мое время, хотя, конечно, гораздо после того, как я уже буду на том свете» – прим. авт.), и никто не знал, что он – избранник Божий.
Но мы-то знаем…
И Н. Ф. – уже тогда! – ЗНАЛА…
Едва услышав первые звуки его сочинений, – знала…
Так вот. Несмотря на то, что переписка сопровождалась пересылкой денег, без которых творчество Петра Ильича Чайковского просто могло бы не состояться, она была искренней. Более того – искренней абсолютно и безусловно. В той степени, какая вообще возможна в этой жизни.
Как это удалось обоим корреспондентам?
Об этом можно долго размышлять, но не в том суть. Надо просто сердцем почувствовать ее тональность (выделено мной – авт.), изначально заданную Н. Ф. – на то она и невероятная, непостижимая женщина, – и чутко подхваченную композитором, – на то он и великий. Ведь все написанное – нотами ли, словами, – имеет свою тональность, и когда в полной мере ощущаешь эту тональность именно сердцем, многое встает на свои места.
Нет ни одной статьи или книги о Чайковском, где бы ни упоминалась его в своем роде уникальная переписка с Н. Ф. По праву претендующая называться «энциклопедией русской жизни» в реалиях ускользающего времени. Не имеющая аналогов в мировом эпистолярном наследии – ни по своей продолжительности, ни по своему объему – более 1200 писем, – ни по великому множеству запечатленных в ней движений души, ни по обилию подробностей, составлявших быт, жизнь, судьбу – отдельно взятых людей и всей великой Российской империи в целом.
Переписка поистине бесценная, ведь корреспондентами были гениальный композитор и необыкновенная женщина, сумевшая стать вровень с русским гением.
А что бы произошло с героями переписки и всеми нами, если бы они жили в наше время и отправляли друг другу sms? Или пользовались WhatsApp и другими современными средствами связи? Какой огромный культурный, творческий, человеческий пласт просто канул бы в пустоту, в небытие! Даже представить страшно… А нам несказанно повезло. Большая часть переписки хранится в Доме-музее Чайковского в Клину – бумажная, подлинная, живая, дышащая…
Интерес к ней огромен и не случаен – и среди профессионалов, и среди любителей музыки, и просто среди читающих и мыслящих людей. Именно материалы переписки Чайковского и фон Мекк оказались самыми востребованными и самыми информативными из всего, связанного с жизнью и творчеством великого музыканта. Она выдержала несколько переизданий, переведена на многие иностранные языки – английский, немецкий, шведский, датский…
И что бы ни происходило, ее изучали, изучают и будут изучать во всем культурном мире.
До скончания времен.
Попытка постижения
Что выдают поисковые системы интернета, будь то google или yandex, в ответ на наш запрос о Надежде Филаретовне фон Мекк?
Прежде всего, лаконичные определения Википедии.
«Надежда Филаретовна фон Мекк (урожденная Фраловская, 29 января / 10 февраля 1831 – 14 / 26 января 1894) – русская меценатка, жена железнодорожного магната Карла Федоровича фон Мекка, хозяйка нескольких домов в Москве, подмосковной усадьбы Плещеево, виллы в Ницце. Известна своим покровительством и финансовой помощью П. И. Чайковскому, с которым она долгое время переписывалась».
Казалось бы, все ясно.
Четко определены жизненные и социальные роли – меценатка, жена, хозяйка, миллионерша, одна из самых богатых женщин Российской Империи. Названы основные направления жизненного пути. Но есть ли в истории не только русского, но и мирового искусства, да, пожалуй, и в искусстве русской жизни личность столь же загадочная, как Н. Ф.?
И даже больше – столь же непостижимая?
Вряд ли.
За энциклопедическими определениями, если вдуматься, а еще лучше – в них вчувствоваться, – открывается целый женский космос. Женская вселенная, женская галактика, зашифрованная под инициалами Н. Ф. Как знать, возможно, это то «невидимое-но-существующее», что внутренним взором прозревал гениальный Чайковский в мерцанье вещих снов белыми безмолвными петербургскими и снежными московскими ночами, «в тридевятом дому, над седьмым из небес». На «воздушных путях» параллелей и пересечений. Все «то, что скрывалось между слов и Музыкой звалось». И если, по бессмертному шекспировскому определению, «весь мир – театр, в нем женщины, мужчины – все актеры, у каждого свои есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль», то какую роль сыграла Н. Ф. на этом свете? И вот уже полтора столетия продолжает играть на том, в тонком, незримом, не проявленном измерении, ведь, по словам другого гениального поэта, Александра Блока, «все кончается, только музыка не умирает»?
Каждый ответит на этот вопрос по-своему.
Материнство
«Если женщина, которая уже замужем, да еще за любимым человеком, не мечтает иметь ребенка, то у нее нет сердца», – признавалась Н. Ф.. А выше всего в человеке она ставила именно сердце (выделено мной – авт.). При этом оговаривалась, что сама вовсе не мечтательница и не сочувствует мечтателям (мечтать Наденька Фраловская, по собственному признанию, перестала в семнадцать лет, когда вышла замуж – прим. авт.). Фон Мекк называла себя реалисткой, правда, такой, которой необходима самая горячая поэзия, но реальная. А счастье иметь ребенка полно этой реальной поэзией, и Н. Ф. страстно чувствовала это. Поэтому она всю жизнь, пока могла, отдавалась этой «реальной поэзии» – рожала восемнадцать раз, состоя в браке двадцать восемь лет. При этом семеро новорожденных не выжило. Но и одиннадцать детей – огромная семья, огромное поле деятельности для такого любящего сердца, которым обладала фон Мекк.
Первой в том же самом 1848 году родилась старшая дочь Елизавета. В 1872 году она вышла замуж за инженера Александра Александровича Иолшина, коллегу Карла Федоровича и близкого друга семьи. (Тем самым завязался «кармический клубок» семьи фон Мекк. Так вышло, что Иолшин всю жизнь самозабвенно любил Надежду Филаретовну, будучи намного ее моложе, и считался отцом ее младшей, самой любимой дочери, Милочки. Значит, в какой-то момент, Н. Ф. ответила ему взаимностью? Случился короткий, но бурный роман, о котором Карл Федорович не догадывался? И Александр Александрович Иолшин женился на старшей дочери Н. Ф., чтобы остаться в семье, поближе к Надежде Филаретовне? Как знать… А единственная дочь Елизаветы Карловны и Александра Александровича, Лидия Александровна Иолшина стала супругой родного племянника Н. Ф. Владимира Александровича Фраловского – прим. авт.).
Через два года, в 1850, в семье фон Мекков появилась вторая дочь, Александра. Когда повзрослевшая Саша, сама уже ставшая женой и матерью семейства и жившая своим домом, навещала Надежду Филаретовну, та неизменно была очень счастлива. Если Саша оказывалась около матери, ее ласки и нежность отогревали душу Н. Ф. и доставляли ей надолго чувство блаженства…
Супруги ждали наследника славной фамилии, и, опять же, через два года, 15 июня 1852 года, на свет появился старший сын Владимир, из сыновей самый любимый Надеждой Филаретовной, занимавший особое, только ему принадлежавшее, место в материнском сердце. Более подробно о Владимире Карловиче фон Мекке будет рассказано чуть позже.
Через год, в 1853, родилась Юлия, которая на протяжении всей жизни была особенно близка к матери сильной схожестью характеров и воззрений. Н. Ф. говорила, что из взрослых ее детей самые добрые и заботливые по отношению к ней – это Володя и Юля. Долгое время фон Мекк называла Юлию «собственной» дочерью, потому что та была не замужем и все время находилась при матери. Юлия Карловна давала уроки немецкого языка своим братьям и сестрам – Коле, Саше, Соне, Максу и Мише, – занималась комнатным хозяйством, вела корреспонденцию с братьями и сестрами и вообще очень много трудилась на благо своей семьи. В переписке с Чайковским можно прочитать, как радовался Петр Ильич, узнав, что рядом с Н. Ф. неотлучно был такой преданный друг, как Юлия. Поэтому, когда Юлия Карловна вышла замуж за музыканта и личного секретаря Н. Ф. Владислава Альбертовича Пахульского, Надежда Филаретовна испытала острое чувство покинутости и одиночества и очень страдала… Для нее замужество дочери (как оказалось, это был давний роман, тянувшийся с разными перипетиями семь лет – прим. авт.) стало «большим горем» – не потому чтобы она имела что-нибудь против выбора Юли, ведь Владислав Альбертович был прекрасным человеком. Н. Ф. теряла свою дочь, которая была ей необходима и без которой она не представляла своего существования. Огромная и незаменимая потеря – хоть Юлия Карловна и просила позволения остаться при матери вместе с мужем, – вызвала у фон Мекк сильное нервное расстройство. Она так надеялась, что эта чаша при жизни не коснется ее уст…
А в 1855 родилась четвертая дочь – Лидия. И вот уже в семье Карла Федоровича и Надежды Филаретовны пятеро детей!
Большую часть своей жизни фон Мекк была очень бедна. И кто, кроме нее самой, лучше расскажет об этом, крайне тяжелом, периоде жизни семьи?
«Мой муж был инженер путей сообщения и служил на казенной службе, которая доставляла ему тысячу пятьсот рублей в год – единственные, на которые мы должны были существовать с пятью детьми и семейством моего мужа на руках, – писала Н. Ф. Чайковскому в первый год их переписки, когда они оба подробно, в деталях, рассказывали друг другу о себе и своих близких, о том, как складывались их пути по жизни. – Не роскошно, как Вы видите… При этом я была кормилицею, нянькою, учительницей и швеей для моих детей, а также камердинером, бухгалтером, секретарем и помощником своего мужа. Хозяйство было, конечно, также все на моих руках. Работы было много, но я не тяготилась ею».
Романтическая мечтательность Наденьки Фраловской уступила место стойкости, мужеству и твердости в преодолении жизненных невзгод, а подчас и трезвому, почти мужскому, расчету Надежды Филаретовны фон Мекк.
Необходимое пояснение
Мать Н. Ф. – Анастасия Дмитриевна Потемкина – приходилась племянницей знаменитому государственному деятелю, светлейшему князю Таврическому Григорию Александровичу Потемкину, фавориту императрицы Всероссийской Екатерины II, так как дедушка Н. Ф. по матери Дмитрий Демьянович был двоюродным братом Григория Потемкина. А это значит, что в жилах Н. Ф. текла потемкинская кровь, возможно, многое в ней определившая. Во всяком случае, считается, что сильный характер, непреклонная воля, деловые качества, решительность и предприимчивость перешли к Н. Ф. от матери, Анастасии Дмитриевны, бывшей главой семьи, но, к сожалению, рано покинувшей этот мир. А любовь к музыке и тонкий вкус – от отца, Филарета Васильевича Фраловского, которого Н. Ф. обожала.
История сложилась так, что, когда, спустя много лет, семейства фон Мекк и Чайковских породнились, благодаря горячему желанию этого со стороны Н. Ф. и вспыхнувшей взаимной любви молодых отпрысков благородных фамилий – сын Н. Ф. Николай Карлович фон Мекк женился на родной племяннице Петра Ильича Чайковского Анне Львовне Давыдовой, дочери Льва Васильевича Давыдова (сына декабриста) и Александры Ильиничны Чайковской (родной сестры Петра Ильича), – то в своей жене Николай Карлович, будучи правнучатым племянником князя Григория Александровича Потемкина, тоже обрел потемкинскую кровь. Ведь Анна Львовна приходилась правнучкой на этот раз родной племяннице Потемкина – Екатерине Николаевне Самойловой, дочери сенатора Николая Борисовича Самойлова. Близкое родство шло через мать Екатерины Николаевны Марию Александровну Потемкину, родную сестру князя Григория. Получается, что мать Н. Ф. Анастасия Дмитриевна Потемкина и прабабушка Анны Львовны Давыдовой Екатерина Николаевна Самойлова – троюродные сестры по линии Потемкиных.
«– Кровь – великое дело, – неизвестно к чему весело сказал Воланд…» (Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»).
Между тем, семейство фон Мекк продолжало расти.
Шестой ребенок – а это был второй сын, Николай, – родился в 1863 году. Ему, так же как и Владимиру Карловичу, посвящен отдельный рассказ – поскольку в нескольких строках о личности такого масштаба не напишешь.
Следом за Николаем Карловичем в жизнь пришел его погодок Александр (родился в 1864 году), третий сын в семье фон Мекк, также личность незаурядная. И он заслуживает особых слов в этом повествовании.
Занятая делами своего мужа, Н. Ф. поручала старшим дочерям заботиться о своих младших братьях. Так, Елизавета Карловна присматривала за Владимиром, а Александра Карловна – за Николаем.
В 1867 родилась пятая дочь Карла Федоровича и Надежды Филаретовны – Софья, ставшая матерью четверых детей и получившая известность как просветительница и общественный деятель, основательница Высших женских сельскохозяйственных курсов (Голицынских, так как во второй раз Софья была замужем за князем Дмитрием Михайловичем Голицыным, сотником Кубанского казачьего войска, офицером Конвоя – прим. авт.). В свое время Николай Карлович сделал подарок сестре – подарил ей известнейшую в то время частную женскую гимназию-пансион Мага и Бесс, и Софья Карловна настолько вошла во вкус преподавания и просвещения, – тем более, что это у нее прекрасно получалось, – что создала первые в России сельскохозяйственные курсы для женщин.
Следующий сын – Максимилиан (год рождения 1869), в будущем – дипломат, секретарь посольств России в США, Швеции, Югославии, до 1911 года бывший российским консулом в Ньюкасле. В 1894 году в память о своем отце, Карле Федоровиче фон Мекке, учредил именную стипендию для студентов Петербургского института путей сообщения имени Александра I и пожертвовал средства на содержание общежития института. Интересно, что сын Максимилиана Карловича Георгий (Юрий), родившийся в США, первым браком был женат на Сандре Милованофф, французской актрисе и балерине российского происхождения, особенно известной в эпоху немого кино. Вероятно, познакомились они на съемках, так как Юрий тоже снимался в кино. Сандра родила Юрию Максимилиановичу сына, но его следы затерялись, а судьба осталась неизвестной. Второй женой Юрия фон Мекка стала урожденная Медичи. Сам Юрий Максимилианович фон Мекк, бывший коммерсантом в Перу, скончался предположительно там же в 1941 году.
1871 год принес в семью фон Мекков сына Михаила, умершего в двенадцать лет от порока сердца. И, наконец, в 1872 году Н. Ф., которой было уже за сорок, стала матерью в последний раз, произведя на свет дочь Людмилу – всеобщую любимицу семьи Милочку. Петр Ильич Чайковский в своих письмах не уставал посылать Милочке самые нежные поцелуи. А она, в ответ, целовала его фотографию…
***
Многим детям и внукам фон Мекк были уготованы трагические судьбы – надвигался ХХ век. И все равно на фоне трагических коллизий века выделяются крестные муки, которые претерпели все дети Людмилы Карловны, вынужденной в начале Первой мировой войны сменить отчество на Георгиевна и тем самым лишившейся в эзотерическом смысле мощной поддержки отцовского рода. Причиной тому были царившие в обществе анти немецкие настроения. Людмила Карловна фон Мекк (Милочка) вышла замуж семнадцати лет за князя Андрея Александровича Ширинского-Шихматова, будучи безумно в него влюбленной. Брак оказался крайне неудачным. Вплоть до того, что Н. Ф. не желала видеть своего зятя и отказала ему от дома, страшно переживая за Милочку.
В браке родилось пятеро детей, у которых что ни судьба – то Голгофа. Старшая дочь Людмилы Карловны, Павла Андреевна (Паня), в двадцать четыре года приняла монашество – это произошло в роковом 1914 году. А в 1930 ее арестовали и приговорили к пяти годам лагерей – Соловки, Белбалтлаг, – где ее жизнь вскоре оборвалась… Старший сын Михаил Андреевич Ширинский-Шихматов (год рождения его неизвестен) застрелился совсем юным – в 1907. Причины неизвестны…Родившийся в 1896 году Аникита, известный в монашестве как отец Никола, почти всю свою недолгую жизнь провел с небольшими перерывами в тюрьмах и лагерях, пока в 1937 году его не расстреляли в НКВД. Марию Андреевну в 1930 сослали в Казахстан, где она и сгинула. В Казахстан в двадцать пять лет отправили и младшую, Екатерину… И все это пришлось пережить веселой, миловидной, очаровательной Милочке, скончавшейся в 1946 году…
«…Зачем моему ребенку – такая судьбина?» – цветаевский вопль, подхваченный миллионами матерей по всей России…
***
Была ли Надежда Филаретовна фон Мекк – в силу своего решительного характера и твердых убеждений – деспотичной в отношении детей? Вспомним, что ее внучка, Галина Николаевна фон Мекк, называла бабушку царицей, правительницей, личностью на троне… Строгой, требовательной (поскольку спрашивала, в первую очередь, с самой себя – прим. авт.) – да, была. А вот деспотичной… При ее глубоком уважении к человеческой личности и внутреннему миру каждого человека… Едва ли. Уважение и деспотизм не стыкуются между собой никоим образом. Но то, что именно Надежда Филаретовна вносила порядок и дисциплину во все аспекты жизни своей огромной семьи – несомненно.
Более того, Н. Ф. упрекали в том, что она якобы слишком балует своих детей! Возможно, и так бывало, но зачем же их мучить, считала фон Мекк, если в жизни и так хорошего мало? Как тут не вспомнить великого русского поэта Марину Ивановну Цветаеву с ее знаменитой фразой: «Мальчиков нужно баловать – им, может, на войну придется…» Потому и баловала сверх всякой меры своего единственного сына Мура (Георгия Сергеевича Эфрона), погибшего в первом же бою под деревней Друйка в Белоруссии…
Сдержанная во внешних проявлениях материнской любви, Н. Ф. бесконечно любила своих детей и подчиняла их интересам и потребностям свою жизнь. Любила по-настоящему, глубоко и самоотверженно, будучи внимательной ко всякой детали и мелочи в их поведении, настроении, самочувствии, увлечениях. Ей так часто хотелось оставаться подольше в Италии, в благотворном, особенно для ее больных легких, климате. Но долг и обязанности перед детьми гнали ее в Россию, где она страдала от холода. Лето в России часто бывает дождливым, переменчивым, а Н. Ф. так необходимо было ясное голубое небо, много солнца и тепла. «Несчастная наша родина – у нее даже и лета нет!», – говорила фон Мекк… Но ничего нельзя было изменить… А дочь фон Мекк, Юлия Карловна, к примеру, терпеть не могла Париж. Разве, зная это, Н. Ф. смогла там спокойно жить? Нет, конечно, нет.
Спокойствие, здоровье и даже сама жизнь Надежды Филаретовны всецело зависела от состояния ее детей. Дети определяли ее судьбу полностью, им она посвятила себя и свою жизнь и была счастлива семейными событиями и радостями.
***
Выезжая с детьми за границу, Н. Ф. непременно брала с собой свой штат прислуги, а также всех учителей и гувернеров детей, так что за стол обыкновенно садились пятнадцать человек. Но, поскольку, как и Чайковский, фон Мекк постоянно нуждалась в уединении, то у нее были свои покои. Правда, к ней каждые пять минут приходил кто-нибудь из больших и малых детей со своими просьбами – поэтому письма Петру Ильичу Н. Ф. часто писала по несколько дней с перерывами, – но все же она не находилась разом в большом обществе. Утром, после кофе, фон Мекк садилась за письмо, и тут ее домашние поочередно к ней приходили здороваться, причем каждый что-нибудь рассказывал. То Коля (Николай Карлович) приходил просить, можно ли взять паровую лодку для катанья; то Сашок (Александр Карлович) спрашивал, можно ли купить такое-то путешествие; то Маня (внук Н. Ф. Эммануил Беннигсен – прим. авт.) забегал с букетом цветов для бабушки и требовал, чтобы та завела ему медведя с музыкой; то Юля (Юлия Карловна) приносила карточку от банкира и спрашивала, на который час велеть экипажам приехать; то Соня (Софья Карловна) интересовалась, с какого дня начать уроки… После обеда для Сашиного (Александры Карловны Беннигсен) удовольствия играли в карты – партию составляли Саша, Н. Ф., Александр Филаретович Фраловский, брат Н. Ф., и Владислав Альбертович Пахульский. Фон Мекк обыкновенно проигрывала, так как играла очень рискованно…
«Летом с мальчиками побывать в Швейцарии на Lac des quatre Cantons, в Berner Oberland и в Chamonix, проехаться на Lago di Como и в Милан, оттуда в Arcachon, где остаться и после их отъезда до 1 октября, потом в Рим на одну неделю и в Неаполь месяца на два, – сообщала фон Мекк Чайковскому о семейных планах. – К Рождеству вернуться в Браилов и остаток затем зимы прожить в Киеве, где для меня приискивают уже квартиру. Я знаю, милый друг, Вы найдете неблагоразумным в декабре перенестись из Неаполя в Россию, но что делать: у кого есть одиннадцать человек детей, тот не может делать только то, что полезно для его здоровья (выделено мной – авт.). Мне слишком жаль лишить этих бедных мальчиков удовольствия провести праздники в своем семействе, а там уж пусть, что бог даст, то и будет…».
Все объяснялось просто.
Чайковский был вполне свободен, так как был одинок, а Н. Ф. – вполне не свободна, потому что далеко не одинока. Вот и вся разница в их положении. То, что Петр Ильич, пользуясь своей свободой, мог сделать, не задумываясь, то Надежда Филаретовна, перед тем, как сделать, долго думала и в результате не делала. А если иногда шла навстречу своему личному желанию, то потом упрекала себя нещадно…
Фон Мекк никогда не испытывала желания отдать своих дочерей в институт для воспитания. Считала это вообще неприемлемым, ведь, по ее мнению, редко кто там мог сберечься – обыкновенно хорошие натуры портились, дурные делались еще хуже, а пустые становились непробудно пустыми. Они воспитывались дома с боннами, гувернантками, домашними учителями, среди которых непременно были учителя музыки.
«Могу сказать без всякого пристрастия, Петр Ильич, – писала Н. Ф. Чайковскому, – что три мои дочери, которые замужем, – такие жены и семьянинки, какие редко бывают на свете (речь шла о Елизавете, Александре и Лидии. Лидия Карловна вышла замуж в 1877 году за Федора Федоровича -2 Левис оф Менар, офицера лейб-гвардии Кирасирского полка («желтый кирасир»), в браке родилось десять детей – прим. авт.)».
Своими материнскими чувствами и заботами Н. Ф. откровенно делилась с Петром Ильичом Чайковским, будучи уверенной, что Чайковский все поймет, так как сам безумно любил детей – своих многочисленных племянников, детей родственников, знакомых, соседей, и просто деревенских ребятишек (своих, к сожалению, у него не случилось).
Вот, к примеру, очень показательный фрагмент из ее письма к Петру Ильичу из Москвы от 18 марта 1877 года, когда переписка только начиналась: «Позвольте мне, Петр Ильич, послать Вам мою фотографию. Эта карточка дорога мне, во-первых, потому, что я на ней не одна, а во-вторых, потому, что она есть работа (как фотография) одной из моих дочерей (дочь Н. Ф. Александра Карловна увлекалась фотографией – прим. авт.), и, посылая ее Вам, я, конечно, не ожидаю сделать Вам этим удовольствие, а хочу только до некоторой степени выразить Вам то глубокое чувство, которое питаю к Вам, – тем более, что я знаю, что Вы способны понимать и чувство матери (выделено мной – авт.) Извините, Петр Ильич, что я только сегодня пишу Вам, но этому причиною то, что одному из моих детей, семилетнему мальчику (Михаилу – прим. авт.), вчера делали операцию глаза, – то Вы поймете, конечно, что я не была в состоянии писать, тем более, что хлороформ, на который я рассчитывала как на облегчение страдания, не произвел на него никакого действия. Ему вдыхали столько, что пульс почти останавливался, а он не терял ни сознания, ни чувствительности, так что бедный ребенок вытерпел всю боль. Мой товарищ по фотографии есть самая младшая пятилетняя моя девочка Людмила, или Милочка, как ее зовут в семействе, которую позвольте Вам отрекомендовать и просить полюбить».
В марте 1883 года, находясь в Ницце, Н. Ф. узнала о болезни сына Миши, что повергло ее в состояние крайнего расстройства и огорчения. Дети, Николай и Александра, долго скрывали от нее истинное положение вещей, опасаясь за ее здоровье, но тем самым продлив мучительное чувство томления и смертельного беспокойства. Разве можно было что-то скрыть от матери, тем более, такой чуткой, как Надежда Филаретовна? И теперь она приходила в ужас за настоящее и будущее бедного Миши. Все ее мысли были заняты тем, что же будет с этим несчастным ребенком? Врачи запрещали ему все, и такое прозябание невозможно было выдержать живому человеку. Попытки Чайковского успокоить Н. Ф. и убедить в том, что это временное расстройство и что состояние Миши очень далеко от того, что называют пороком сердца, оказались тщетными. Она очень хорошо понимала весь ужас испытания, посланного ей судьбой. «Даже умереть спокойно нельзя, оставляя такого мученика», – вырвались у нее слова отчаяния. Коля и Саша ухаживали за больным братом, но выздоровление не подвигалось ни на шаг. Если ему и делалось лучше, то буквально на один день, а потом состояние становилось все более угрожающим и опасным…
При этом Н. Ф. находила в себе силы писать Петру Ильичу и не оставлять его своими заботами, за что он ей бесконечно благодарен. «Благодарю Вас несчетно, дорогой, милый, добрый друг, за книги, за немецкую газету и номер «Русск[их] ведом[остей]». Право, нужна Ваша ангельская доброта, чтобы, быв столь обеспокоенной болезнью Миши, иметь время еще беспокоиться о мне и снабжать мои досуга чтением. Я до глубины души тронут этим», – читаем мы в письме Чайковского от 3 мая 1883 года из Парижа. Он знал и чувствовал, что Н. Ф. огорчена, встревожена, больна физически и нравственно из-за болезни сына, и сокрушался, что бессилен отвратить от дорогого друга тревоги и беспокойства. Оставалось только молиться Богу, что он и делал постоянно.
Несчастье все-таки свершилось – Миша скончался… Н. Ф. так и не увидела своего бедного мальчика. Ее к нему не пустили и правильно сделали – фон Мекк не выдержала бы вида его смерти… Но после всего она оставалась спокойной и относилась к отсутствию Миши, как к непродолжительной разлуке, думая, что и сама скоро умрет…
А вот письмо из Плещеева, от 29 мая 1886 года: «У меня в нынешнем году так много тревожных ожиданий: в этом месяце должна разрешиться моя Лида, в июне – Соня, а затем в сентябре – Саша и Анна. Страшно за всех за них, но больше всего я беспокоюсь о Саше: ее нервы в таком ужасном состоянии, что я и подумать не могу, как она вынесет эту тяжелую расправу. С Максом мне опять горе, опять не выдержал из латыни, ему никак не даются эти древние языки. Другие экзамены идут хорошо, а на латыни второй год проваливается; вероятно, дадут переэкзаменовку, но все лето уже будет испорчено. Я всегда говорю, что у кого есть хоть трое детей, тот уже покоя никогда не знает, а у меня их десять, и я a la lettre [буквально] покоя никогда не знаю» (выделено мной – авт.).
***
Всю жизнь, непрестанно, Надежда Филаретовна вкладывала свои силы в преумножение семейного капитала и обеспечение своих детей. Все ее замужние дочери получили наделы, с которых имели от пятнадцати до двадцати тысяч в год дохода. Юлия Карловна, пока не вышла замуж, жила на всем готовом и получала на туалет пять тысяч в год. Максимилиану Карловичу Н. Ф. подарила землю в Хрусловке, в живописном месте на реке Осетр, близ города Венев Подольского уезда Московской губернии. Став совершеннолетним, Максимилиан фон Мекк построил на этой земле роскошный дом, обставленный мебелью из карельской березы и орехового дерева, где ни одна комната – а их в доме было двадцать четыре – не повторяла другую. Там были дубовый и ореховый залы, китайский зал со стенами, обитыми шелком, зал, отделанный под ясень, выкрашенный в серебро и в золото, зал, где стены, пол и потолок были зеркальными…
(А в интернете, с подачи некого краеведа, гуляет информация о том, что тульские власти, желавшие провести в своих краях железную дорогу, якобы купили землю в шести километрах от Венева, построили там дворец и подарили его железнодорожному магнату, барону фон Мекку, в виде «отката», или, по-современному, взятки. При этом имелся в виду не Карл Федорович, а Николай Карлович фон Мекк, а его женой названа мать Николая Карловича, Надежда Филаретовна, к тому же, виртуозно игравшая на скрипке (?!). В общем, все переврали. Как видим, это всего лишь миф, не имеющий с действительностью ничего общего и говорящий о том, что информацию из интернета надо тщательно проверять – прим. авт.).
Из всех взрослых детей Н. Ф. не имел надела и меньше всех получал от матери старший сын, Владимир Карлович – семь тысяч рублей в год. Но это потому, что, будучи директором в трех правлениях, он сам много зарабатывал – до пятидесяти тысяч рублей в год. Фон Мекк, дела которой часто бывали затруднительными, давала ему так мало, поскольку у него было чем жить, и он постоянно просил мать совсем ничего не давать ему.
В сложных денежных положениях Н. Ф. совершенно не беспокоилась о себе, только о детях. О них были все ее помыслы. «Я-то ведь как-нибудь доживу, – говорила она, – но меня убивает, не дает покоя страх, что дети останутся ни с чем. Я всю свою жизнь, всю себя кладу на то, чтобы обеспечить им средства к жизни, и не достигнуть этого ужасно, нельзя умереть спокойно. Но, конечно, никто, как Бог, – на него одного вся надежда!»
Самоотверженность ее не имела предела.
Но иногда, а, точнее, очень-очень редко, фон Мекк все же никак не могла сдержать душевного вопля, вырывавшегося на бумагу из ее натруженного, наболевшего сердца: «Как это тяжело – никогда, во всю жизнь не видеть оценки своего труда, своей заботливости. Кладешь всего себя, свое здоровье, спокойствие, жизнь, все свои помыслы на то, чтобы другим было хорошо, и никогда не видишь, чтобы это было замечено, признано»…
Любимый Владимир и обожаемый Воличка
«Всепрощающая душа». «Славное любящее сердце». Так говорила Н. Ф. о своем старшем и самом любимом сыне Володе – Владимире Карловиче фон Мекке. Она не только бесконечно его любила, но и постоянно жалела. Почему? У Владимира было очень много врагов и ни одного друга. Он, несмотря на плохое здоровье, трудился, как вол, но ни от кого, кроме матери и сестры Юлии, не получал должной оценки своего труда…
Детство Володи, родившегося в Рославле, прошло в ужасающей бедности, которую тогда испытывала вся семья, в нужде и лишениях. Потом семья фон Мекк сказочно разбогатела. Да и женился Владимир Карлович, преумножив семейный капитал, на девушке из очень богатой семьи – Елизавете Михайловне Поповой, дочери крупного московского водочного фабриканта. Свадьба состоялась в год смерти Карла Федоровича фон Мекка – 1876. Елизавете Михайловне на тот момент было пятнадцать лет, а Владимиру Карловичу – двадцать четыре года. Н. Ф. любила свою невестку Лизу – милую, хорошенькую, симпатичную. Но так получилось, что врачи испортили ее здоровье – после перенесенного воспаления брюшины морфий, примененный для лечения, подействовал на мозг и вызвал пагубную зависимость, что и привело к преждевременной смерти Лизы в тридцать лет…
Еще при жизни отца Владимир начал помогать ему в железнодорожных делах и стал крупным предпринимателем, взявшись руководить коммерческими предприятиями семьи фон Мекк, имевшими многомиллионные обороты, в частности, был директором Московско-Рязанской и Либаво-Роменской железных дорог. А так же, в традициях семьи, занялся коллекционированием (если Н. Ф. собирала западно-европейскую живопись, то Владимир Карлович отдавал предпочтение русским художникам – прим. авт.) и благотворительностью.
Жертвовал на Московское общество призрения, воспитания и обучения слепых детей; на Мышкинское училище (основанное Палатой государственных имуществ в 1843 году) в Можайском уезде, где состоял попечителем; на строительство Московского дворянского института для девиц благородного звания имени императора Александра III, в память императрицы Екатерины II; на Николаевскую гимназию в Либаве, за что ему была объявлена признательность Министерства образования; на постройку храма Всех Святых Алексеевского женского монастыря в Красном Селе в Москве. Состоял членом многих благотворительных организаций: Императорского человеколюбивого общества, Общества поощрения трудолюбия в Москве, Общества для пособия нуждающимся студентам Императорского Московского университета (Владимир Карлович окончил этот университет, а в 1881 году передал своей Альма матер собранную им библиотеку из 1885 томов, включавшую книги по географии, различные справочники и произведения художественной литературы, преимущественно на французском языке – прим. авт.), а также входил в Правление благотворительного общества III мужской гимназии и в комитет стипендии имени Дельвига в Дельвиговском железнодорожном училище в Москве. В своем имении Красновидово близ Можайска Владимир Карлович построил каменную Александро-Невскую церковь со звонницей. Планировал возвести православные храмы и в «русской Прибалтике» – Эстляндии, Лифляндии и Курляндии. Вместе с Николаем Григорьевичем Рубинштейном выступал патроном художника-передвижника Ивана Лаврентьевича Горохова, выходца из семьи крепостного крестьянина. А в самом начале 80-х годов спас от банкротства популярную общественно-политическую газету «Русские Ведомости», став ее совладельцем.
Главным попечителем Императорского человеколюбивого общества А. Н. Марковичем 3 июня 1891 года было подано прошение секретарю императрицы Марии Федоровны «об исходатайствовании именного благоволения цесаревны Марии Федоровны попечителю Дома воспитания сирот убитых воинов в Москве, состоящего в ведении Московского общества поощрения трудолюбия Человеколюбивого общества, В. К. фон Мекку за деятельное участие в устройстве Дома в течение 12 лет и щедрые пожертвования в сумме 25 тыс. рублей».
Во время Русско-турецкой войны 1877-78 годов Владимир Карлович с женой, Елизаветой Михайловной, был активным членом Красного Креста. За свое деятельное участие Елизавета Михайловна получила редкую награду из рук королевы Румынии Елизаветы (всего таких наград было двадцать восемь – прим. авт.). Для бережного вывоза тяжелораненых с поля боя Владимир Карлович сам сконструировал самодвижущиеся носилки – нечто среднее между каретой и телегой, – и через газету пригласил желающих поддержать этот проект финансово и технологически.
Нищее детство и неожиданно свалившееся на него богатство сказались на его характере и привычках таким образом, что он тратил деньги, не считая, причем на других, но и себе ни в чем не отказывал. Скупость, прижимистость, жадность – не его история. «Чахнуть над златом» он не то что не собирался, но просто не понимал, как такое возможно. Владимир Карлович, человек широкой души и безудержного размаха, прославился как известнейший на всю Москву, истинно русский хлебосольный хозяин и добрейший товарищ. Наголодавшись в детстве, он от души кормил и поил всех. Его дом был открыт для всех в буквальном смысле этого слова. Феномен, беспрецедентный и для Москвы, и для Петербурга, что порой порождало прямо-таки анекдоты.
«Фон Мекк держал открытый дом, – вспоминал известный русский журналист, медийная фигура того времени, Влас Дорошевич. – Всякий, без зова, мог являться, один, с друзьями, заказывать пить, есть и уезжать, даже без знакомства.
Однажды фон Мекк после театра “сам приехал к себе”. В столовой сидел какой-то офицер. Разговорились, не называя себя.
– Да вы видели когда-нибудь хозяина этого дома? – спрашивает офицер.
– Видел, – улыбнулся фон Мекк.
– Вот счастливец! А я, батенька, шестой месяц сюда езжу, – никак с хозяином встретиться не могу!».
Бывало и такое, что, возвращаясь под утро домой, Владимир Карлович вспоминал, что здесь, недалеко, живет артист, которому он позавчера не дал чаевых за концерт – не было при себе достаточного количества наличных средств. Тогда он приказывал кучеру разворачиваться и ехал к тому самому артисту, чтобы его вознаградить…
Щедрость Владимира Карловича, шедшая от сердца, вкупе с неумеренной жизнью богача, не считая, раздававшего свои деньги направо и налево и при этом не кичившегося своим богатством, не могла не вызывать самой черной зависти и недоброжелательства. О нем слагали легенды, но ему не удалось избежать постоянно преследовавшей его злой и несправедливой молвы. Просадил все деньги, нанес огромный ущерб семье, мот, транжира – чего только про него ни говорили! Сколько клеветы и самой возмутительной лжи на него обрушивали! Врагов у него было немеряно, причем во вражеском стане оказались люди, близкие к Н. Ф.. Мало того – обязанные фон Мекк своим благосостоянием. Вот уж поистине – не делай добра, не наживешь врага…
Они знали Володю, когда он «в русской рубашке бегал десятилетним ребенком», и не могли простить, что он вырос и взял дела империи фон Мекк в свои руки, оказавшиеся на редкость умелыми и крепкими. Когда умер основатель империи Карл Федорович фон Мекк, они мечтали, что сами приберут к рукам фонмекковские миллионы и будут ими ворочать. Но Н. Ф. отказалась от услуг мнимых благодетелей и взяла в помощь старшего сына. Следовало ожидать, что эти озлобившиеся люди перешли всякие границы и начали преследовать Володю, пытаясь его уничтожить. Его добротой пользовались и беззастенчиво его обирали. А он совершенно не мог себя защитить и всем все прощал, чего, по собственному признанию, не смогла сделать Надежда Филаретовна. Владимир Карлович за всю жизнь ни о ком не сказал плохого слова и не выносил, когда при нем злословили другие. «Этот барин мухи не обидит», – говорили о нем простые люди. А вот его самого обижали постоянно.
В конце концов, не выдержав преследования, Владимир Карлович вынужден был выйти из правления Либаво-Роменской железной дороги, где был председателем. Своей собственной дороги, которая принадлежала семейству фон Мекк!
Подлости в свой адрес несказанно огорчали Владимира Карловича, на его глазах выступали слезы от оскорблений, но он не раздражался и органически был неспособен ненавидеть кого-либо, даже своих открытых врагов. По сути, он оставался большим ребенком, но в делах проявлял удивительную для его мягкого, незлобивого характера хватку, сообразительность, волю, несмотря на то, что любил кутежи и вел беспорядочный образ жизни («Я очень хорошо знаю, что мой бедный Володя – кутила», – признавалась Н. Ф. Чайковскому). Но ведь такое поведение никому, кроме него самого, зла не делало…
Первый в России профессор географии, выдающийся ученый, Дмитрий Николаевич Анучин, оставил такие воспоминания о Владимире Карловиче: «День выдался теплый, солнечный, и мы, товарищи и сотрудники, решили отпраздновать эту годовщину обедом в «Стрельне», в Петровском парке. Обед устроен был на товарищеских началах, довольно скромный, с минимальным количеством вина. Он уже приходил к концу, как явился В.К. фон Мекк, выразивший желание приветствовать новое товарищество. Потребовано было шампанское и вызван оркестр военной музыки, кажется, казачий. Этим, однако, фон Мекк не удовлетворился и вызвал свой собственный оркестр, которым он сам дирижировал и который был приучен следовать в точности за своим дирижером. Когда палочка дирижера останавливалась, останавливался и оркестр; дирижер выпивал бокал, его палочка снова приходила в действие, и оркестр продолжал играть с той ноты, на которой остановился. Шампанское лилось, что называется, рекой, до поздней ночи».
В 1886 году Владимир Карлович фон Мекк получил орден св. Владимира 4-й степени как попечитель Дома воспитания сирот убитых воинов. А, кроме того, был награжден орденом св. Анны 2-й степени, орденом св. Станислава 2-й степени и черногорским орденом св. Даниила 3-й степени – Командор.
Он оставался верным другом и помощником матери до самой своей преждевременной кончины…
***
«Этот милый ребенок вносит такую радость и тепло, что, кажется, где он, там и благодать Божия; он вливал бальзам в мою измученную душу», – писала Надежда Филаретовна Петру Ильичу о своем обожаемом внуке Владимире (Воличке), единственном сыне Владимира Карловича и Елизавете Михайловны фон Мекков, разлука с которым каждый раз становилась для Н. Ф. «настоящим горем». В свою очередь, Воличка любил свою бабушку больше всех остальных внуков. То приносил ей цветы, то хотел с ней обедать, то не отпускал ее кататься…
С раннего детства добрый и деликатный Воличка проявлял удивительные способности: говорил как англичанин, писал и читал по-английски, по-немецки и по-русски, а ведь ему на тот момент не было и семи лет! И музыкальными способностями Воличка отличался отменными. Знал ноты, подбирал по слуху на фортепиано разные мотивы. Играл с Юлией в четыре руки. Для этого приносил ноты, развертывал их, ставил на пюпитр, но играл все пьесы наизусть. Н. Ф. даже опасалась такого преждевременного развития внука.
Воличка любил свою мать, Елизавету Михайловну, до страсти, причем эта привязанность доходила до истинно поэтических форм. Каждую попавшую к нему материнскую вещь он свято хранил. Если у него нечаянно оказывался носовой платок Елизаветы Михайловны – как же Воличка радовался, как целовал его! А к ее портрету он неизменно обращался с нежностью и ласковыми словами. При этом в выражении чувств он нисколько не подражал взрослым, а обнаруживал свою натуру совершенного ребенка. «Если бы Вы увидели этого ребенка, дорогой мой, – писала фон Мекк Чайковскому, – Вы бы поняли, что у такого существа не могут быть дурные родители» (после ранней смерти обоих родителей Владимир Владимирович с пятнадцати лет воспитывался в доме своего родного дяди, Николая Карловича фон Мекка – прим. авт.).
В маленьком Воличке Н. Ф. находила только один, по ее мнению, «порок», да и то не его личный, а привитый воспитанием, – это привычка к роскоши. Он носил самое тонкое белье, не мог надевать других чулок, кроме как шелковых. Чистота для него требовалась самая щепетильная, так что даже в вагоне при переездах ему каждый день меняли белье, а самый вид какой-либо неопрятности возбуждал в нем крайнее отвращение. На детских фотографиях Воличка выглядит этаким маленьким царьком.
И что же?
Повзрослевший Владимир перестал обращать внимание на то, во что он одет, и не вылезал из полувоенного френча. Маленького роста, щуплый, стеснительный, чуть что – густо красневший и даже порой заикавшийся от смущения, рядом со своим ближайшим другом, князем Сергеем Щербатовым, обладавшим крупной, внушительной фигурой, Владимир фон Мекк, по словам художника Александра Николаевича Бенуа, производил впечатление какого-то состоявшего при богатыре совершенно юного оруженосца. А между тем, он окончил лицей памяти цесаревича Николая (так называемый Катковский), строительство которого частично финансировал его дед, Карл Федорович фон Мекк; получил юридическое образование (по сложившейся в семьях фон Мекков и Чайковских традиции) в Московском университете (так, в Императорском училище правоведения в Петербурге учились четверо фон Мекков и трое Чайковских – прим. авт.) и, являясь одним из богатейших людей Российской Империи, стал крупнейшим коллекционером живописи и меценатом. В его собрании находились работы Врубеля, Васнецова, Левитана, Коровина, Рериха… Как и Н. Ф., Владимир Владимирович обладал тонким художественным вкусом и любил все красивое. Князь Щербатов говорил о нем: «Русским (он был старинного балтийского рода) и москвичом он был до мозга костей».
От своей бабушки, Надежды Филаретовны фон Мекк, Владимир Владимирович получил наследство в размере шести миллионов рублей (что в пересчете на современные деньги составляло порядка полутора-двух миллиардов, то есть, по нашим понятиям, Владимир Владимирович был миллиардером – прим. авт.). И со стороны жены, Варвары Геннадьевны Карповой, младшей дочери историка Геннадия Федоровича Карпова и Анны Тимофеевны Морозовой (родной племянницы миллионера, предпринимателя и мецената Саввы Тимофеевича Морозова – прим. авт.), в молодую семью тоже пришел крупный капитал.
Владимира Владимировича, в отличие от его отца, Владимира Карловича, никак нельзя было назвать транжирой. Его деловые качества и умение направить денежную помощь тому, кто в ней нуждался, трудно было переоценить. Вот уж кто занимался благотворительностью поистине в фон-мекковских, грандиозных масштабах! За несколько лет все свое громадное состояние Владимир Владимирович потратил на помощь русским художникам и их семьям, организацию художественных выставок, издание каталогов и альбомов. Так, он приобрел у Врубеля его полотно «Демон поверженный» за три тысячи рублей – большую сумму по тем временам, а Сурикову за картину «Взятие снежного городка», успешно экспонировавшуюся на передвижных выставках в разных городах России, заплатил десять тысяч рублей. Что и говорить – фон Мекк ценил настоящее искусство по достоинству. С детства увлекаясь живописью, Владимир Владимирович поддерживал основанное великим импресарио Сергеем Павловичем Дягилевым художественное объединение «Мир искусства» и всячески содействовал созданию Союза русских художников.
С двадцати двух лет Владимир Владимирович фон Мекк («маленький Мекк», как его называли современники – прим. авт.) заведовал благотворительными организациями Великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой (родной сестры Императрицы Александры Федоровны – прим. авт.), а в 1904 году стал ее личным секретарем (на этом посту фон Мекк находился вплоть до Февральской революции 1917 года – прим. авт.). Во время Русско-Японской войны, будучи главным уполномоченным Российского общества Красного Креста в Японии, занимался отправкой в Россию русских военнопленных и на свои деньги полностью оборудовал целый санитарный поезд для вывоза раненых солдат и офицеров.
От имени Елизаветы Федоровны (позже, за свой мученический подвиг, причисленной к лику святых и прославленной в чине преподобномученицы Елисаветы – прим. авт.) руководил строительством соборного храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы в Марфо-Мариинской обители, основанной Великой Княгиней в 1909 году, после зверского убийства террористом ее мужа, генерал-губернатора Москвы, Великого князя Сергея Александровича. При этом Владимир Владимирович, имея роскошный дом на Большой Ордынке, поблизости от обители, подаренный молодой семье тещей, жил на скромной казенной квартире в ограде монастыря, пока шло сооружение храма.
Побывав в Англии и узнав о скаутском движении, в 1914 году фон Мекк выступил одним из создателей «Общества содействия организации юных разведчиков города Москвы», рекомендовав председателем родного брата Чайковского, генерала в отставке Ипполита Ильича Чайковского. Владимир Владимирович патронировал и устройство в Москве домов для бесприютных детей.
Когда разразилась Первая мировая война, «маленький Мекк» принял на себя командование всеми складами, санитарными поездами и летучими отрядами Императрицы Александры Федоровны, поступив в ее распоряжение. Императрица, в частности, писала Императору Николаю II: «Мекк – маленький гений, все придумывает и все налаживает. Все, что он делает, в самом деле, хорошо и быстро сделано».
Становится понятным, почему имя Владимира Владимировича фон Мекка на долгие десятилетия было вычеркнуто из российской истории. Так же, как и имена других выдающихся представителей этой фамилии, составлявших гордость России…
После революции фон Мекк какое-то время служил художником в Малом театре, причем его эскизы к спектаклям демонстрировались на крупных выставках. А в 1923 году, направленный в Париж, чтобы отобрать картины для передвижной выставки русского искусства в Америке, Владимир Владимирович навсегда покинул Россию, поселившись с женой в США, где и скончался в 1932 году. Перед смертью он завещал пять вывезенных из России икон и благословение Великой княгини Елизаветы Федоровны православному храму Христа Спасителя в Нью-Йорке. К сожалению, наследников у него не осталось…
Окончание следует…
На фотографии в заставке: Надежда Филаретовна Фон Мекк на террасе усадьбы в Плещеево, 1882
© Е. Ерофеева-Литвинская, 2025
© НП «Русcкая культура», 2025