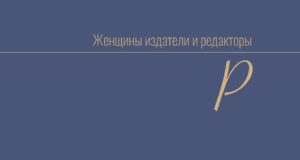Биография как “запись” жизни сопрягает индивидуальную судьбу и память семьи(рода), поколения, культуры.
Интерес к биографии, особенно к феномену биографии в ХХ веке, обусловлен её “ненадежностью.” Об этом есть ясное и симптоматичное высказывание Осипа Мандельштама, что мы в ХХ веке оказались «выброшенными из своих биографий как шары из бильярдных луз…» 1. Но и в ХХI веке биографический способ жизни в культуре не стал менее драматическим.
Биография в её привычном значении – это биография “кого-то”, т.е. она всегда выражается в имени своего носителя, творца. Значимость биографии в культуре определяется её, в частности, очередным томом серии ЖЗЛ – жизнь ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ людей. Но сохраняются ли в памяти культуры жизни не очень “замечательных” людей – обыкновенных, рядовых “пешеходов” истории? И если имеют шанс сохраниться, то при каких условиях и как, в какой форме, виде, жанре?
Думаю, примерно в такой форме возник в моей голове вопрос во время нашего очередного разговора с моей бабушкой — Евдокией Васильевной Фирсовой ( в девичестве –Ураевой), 1891 года рождения. Особенно запомнился один из наших последних разговоров, точнее её воспоминаний – в июне 1970 года. Это был наш последний такой разговор. Конечно, мне 10-летней, вопрос не пришёл в такой форме, но что-то вроде обиды тогда я почувствовала – такая большая, интересная и насыщенная жизнь. Неужели от неё останутся только эти рассказы во мне?
Бывают биографии, имена творцов которых, дают название эпохам, поколениям: эпоха Пушкина, поколение вольтерьянцев… Помните, в комедии А.С.Грибоедова восклицает одна из дам “фамусовского общества”: «Ах, боже мой! Он вольтерьянец!» И ведь действительно имя Вольтера дало название целому поколению – вольтерьянцев. А байронический герой? А ницшеанцы?
Привычно мы рассматриваем личность как факт социальной жизни. Личность определяется той социальной ролью, которую она играет в социальном окружении. Окружение создаёт личность, и процесс этого создания начинается тогда, когда человек попадает в сферу заинтересованности других лиц. Однако основания конструирования типов в социологии предполагают зависимость индивидуальных характеристик личности от социального окружения, т.е. предполагают большую социальную детерминированность личности. Мы предлагаем сделать объектом наблюдения иную ситуацию – когда личность в полноте своего своеобразия и воплощения в культуре определяет характер и особенности культурно-исторического дискурса. Биография такой личности осваивается культурой как текст, который заключает в себе «правила» для созидания собственных смыслов и одновременно для «перепрочтения» уже существующих.
«Презумпция текстуальности» (Б.М.Гаспаров)2 является очевидным положением для объекта нашего исследования – биографического текста.
Традиционно, рассматривая поколение, обращали внимание на характер социально-исторической обусловленности жизни, поведения человека; неслучайно сам термин «поколение» был введён в социологический дискурс и потом получил уже общегуманитарное распространение. Менее всего социологические исследования направлены на понимание обратного влияния: влияния личности, в единичности и уникальности её опыта, на стратегии жизнеповедения, формирующиеся в социуме.
Индивидуальное в памяти культуры сохраняется через имя. В формах биографического мы встречаемся с именем собственным, ставшим нарицательным и обозначившим, закрепившим нечто типическое в истории и культуре (наполеонизм, байронизм; вольтерьянец, ницшеанец), в биографии поколения, одновременно выделяя его «лицо» в чреде поколений.
Так сложился в культуре модерна биографический тип – тип ницшеанца. Вот об условиях рождения, перипетиях его воплощения в культурной памяти ХХ и даже ХХI века мы поразмышляем в дальнейшем.
Комментарии
1. О.Э.Мандельштам. Конец романа.1928г.
2. Б.М.Гаспаров. Язык. Память.Образ.1996г.
На заставке: Алексей Венецианов. Спящий пастушок. 1823-1826
© Л.Е.Артамошкина,2024
© НП «Русская культура», 2024