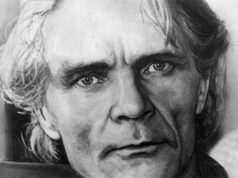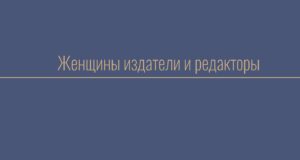Пётр Михайлович Сопин – родился 1973 году в Перми, в семье поэта Михаила Николаевича Сопина. В 1984 году переехал с родителями в Вологду. Закончил Вологодское музыкальное училище и Петрозаводскую государственную консерваторию по классу виолончели. С осени 2000 года живёт в Петербурге, работает в государственном симфоническом оркестре «Классика».
Пётр Михайлович Сопин – родился 1973 году в Перми, в семье поэта Михаила Николаевича Сопина. В 1984 году переехал с родителями в Вологду. Закончил Вологодское музыкальное училище и Петрозаводскую государственную консерваторию по классу виолончели. С осени 2000 года живёт в Петербурге, работает в государственном симфоническом оркестре «Классика».
Я не пропал, пришёл к исходу века.
Бежит река судьбы моей. Течёт.
Михаил Сопин
Читая разнообразные комментарии и отзывы на стихи моего отца (М. Н. Сопина), я очень часто видел не вполне удачные попытки осмыслить его творческое наследие и поэтический феномен. Всё сводилось к тому, как он боролся с «системой», будучи жертвой репрессий, и т. д и т. п. Возможно, такие выводы делались в контексте возобладавших тенденций 90-х, направленных на повсеместную борьбу с советским наследием. Конъюнктура и атмосфера тех дней не давали возможности объективно осмыслять и анализировать многослойные социально-исторические и культурные процессы общественной жизни рухнувшего СССР. Кропотливую последовательную работу на этой ниве заменили декларативные примитивные клише, легко воспринимаемые на обывательском уровне, а наличие лагерной темы в стихах тут же сводило литературную критику к «модному» политическому дискурсу. Пристальные и вдумчивые читатели улавливали более глубокие смыслы и темы, связанные с ВОВ, полусиротским детством и всем, что из этого следует. Я решил, что пришла и моя очередь – как человеку, выросшему рядом с отцом и общавшемуся с ним непосредственно много лет – кое-что прокомментировать и уточнить некоторые моменты, а возможно, и через не сложную параллель с фильмом «Калина красная» В. М. Шукшина максимально доступно изложить то, в какой оптике надо видеть поэтическое творчество М. Н. Сопина, и в этой связи рассказать, почему я взялся за редактирование и правку некоторых текстов.
Первые впечатления о творчестве отца я получил в возрасте 7–8 лет, – однажды зимним вечером, играя в Кунгурскую пещеру, ползая под стульями, накрытыми одеялом, и стараясь при этом не шуметь. Моя самодельная «пещера» находилась в городе Пермь на четвёртом этаже пятиэтажного дома по адресу ул. Баумана 29–14, в меньшей из двух комнат, заполненной клубами табачного дыма от сигарет «Прима». И, видимо, потому, что мамы и старшего брата не было дома и не мешали семейные шум и суета, отец занимался тем, что записывал на громоздкий бобинный магнитофон песни, в сопровождении неспешных переборов семиструнной гитары, о круторогом месяце в небе, тропинке в степи и сугробах, ложащихся на тысячи стадий вокруг. Было в этих напевах что-то таинственно-задумчивое. В дальнейшем, слушая магнитофонные записи отца, мне приходила в голову мысль, что среди них вообще не было энергичных и ритмичных композиций, он явно тяготел к чему-то скорее напоминающему романс, хотя это не точное определение в смысле музыкального языка. Мне это кажется странным, но и после переезда в Вологду, и даже по сей день, я, как человек, занимающийся музыкой, практически не слышал удачных, на мой взгляд, попыток найти правильное звучание, соответствующее этим текстам. Да, кстати, и сам в этом не преуспел, когда пробовал что-то делать в этом направлении.
Следующие более или менее осмысленные впечатления о стихах отца я могу отнести ко времени своего консерваторского студенчества, – вероятно, они возникали в целом по мере взросления эмоционального, мировоззренческого и т. д., и формировались при чтении взятых с собой книжек «Предвестный свет», «Судьбы моей поле», изданных в середине 80-х годов. Конечно, это было уже не интуитивным детским наитием, а попыткой разобраться в прочитанном, учитывая контексты судеб, эпох, событий прошедших и настоящих. Но в целом, по многочисленному ряду тем, затронутых творчеством отца, высказываться не хватало ни духу, ни знаний, ни жизненного опыта. И вот я, перейдя полувековой жизненный рубеж, а стало быть, достигнув возраста, в котором мой отец сам эти стихи написал и опубликовал, решил и решился поработать с оставшимися в наследство авторскими текстами, исходя из суммы различных обстоятельств и наблюдений.
Надо сказать, что первую и самую важную работу с текстами отца провела Т. П. Сопина, моя мама, которая спасла львиную долю всех рукописей и машинописных копий от гибели и забвения. Всё это в полном беспорядке годами валялось либо в разных углах нашей вологодской квартиры, либо прозябало четырьмя этажами ниже, будучи затрамбованным в мешки и сваленным в подвале нашего дома-пятиэтажки. Благодаря многолетним кропотливым усилиям моей мамы, все эти горы бумаги были разобраны и превращены в аккуратные книжечки-сборники, с которыми я сейчас имею дело.
Как неоднократно сам отец рассказывал в тех или иных интервью, поэзия являлась для него своего рода имманентной формой повседневного существования, и то, что в жизни он считал для себя по-настоящему важным, обязательно рано или поздно облекалось в стихотворную форму. Таким же образом рифмовались и менее значимые впечатления, переживания или просто шутки, являясь в ежедневном режиме и калейдоскопическом порядке на бумаге или без неё.
Когда, уже спустя десятилетия, я наконец всерьёз «взялся за дело», то обратил внимание на то, что схожая калейдоскопичность и алогичность конструкции проявляется в некоторых стихах, т. е. не хватает последовательности развития темы и композиционно выверенной стройности, как если бы у сочинителя было много интересных, красивых мелодий, но все они не складывались в цельное произведение, а жили в пространстве сами собой хаотическим образом. Между тем, в природе повсеместно можно наблюдать самые разнообразные, но всегда логически выстроенные взаимодействия геометрических пропорций, математических закономерностей, тех или иных перспектив, обрушение которых приводит к дисгармонии в окружающей нас вселенной, начиная от наномира квантовых явлений и заканчивая космическими планетарными процессами. Всё перечисленное, на мой взгляд, относится к музыке, живописи, архитектуре, поэтическому и вообще любому творчеству.
На мое решение заняться стихами отца повлияло и то – я могу ответственно сказать об этом, – что годы спустя автор сам неоднократно правил уже, казалось бы, давно написанные стихотворения, черновики и рукописи. Наряду с этим имелось большое количество текстов, которые не редактировались квалифицированными специалистами вообще в силу наступившего хаоса 90-х годов, а что-то публиковалось в режиме: «Делай быстро, пока спонсоры деньги дают!». Начинала заявлять свои права реальность всеобщей мировоззренческой, идеологической, духовной дезориентированности, и наблюдалось она практически во всех отраслях культуры: в музыке, театре, кино, и т. д. Всюду царил некий эрзац, забивающий всё как сорняк, формирующий новую творческую бизнес-повестку: романы-однодневки, шоу-бизнес, и т. п. Всем известные прежде маститые режиссёры либо переставали снимать вообще, либо даже при наличии спонсоров и бюджетов создавали что-то невразумительное. Трансформация писательских структур рассыпающегося СССР тоже далеко не всем литераторам пошла во благо, по крайней мере, в краткосрочной перспективе тех дней. Следующие в стране одно за другим потрясения, возможно, провоцировали отца писать излишне реактивно, что не всегда, на мой взгляд, делалось удачно.
На этом фоне всеобщего культурного обрушения одним из немногих любопытных исключений в исторической науке и публицистике выглядел литературный критик В. В. Кожинов, который по мере возможностей содействовал моему отцу. Спустя тридцать лет можно лишь удивляться, насколько поразительно точно Вадим Валерьянович оценивал происходящее в стране, вместе с тем отмечая, что именно тогда, когда его голос и мнение звучали абсолютным диссонансом всему происходящему вокруг, он наконец-то издал практически всё, что хотел, о чём даже не помышлял ранее. Я могу предположить, и для меня это очевидно из прочитанного у отца, что общение с В. В. Кожиновым точно явилось причиной появления нескольких очень хороших стихотворений. Можно долго пытаться анализировать те или другие творческие процессы, того или иного автора, – я же в своей деятельности исходил из личного эмоционально-субъективного понимания того, что есть по-настоящему «ценного и нужного» в стихотворениях отца, и мои усилия в первую очередь были направлены на то, чтобы выявить в них потаённую концентрированную суть человеческую, а не просто зафиксировать всё, что им было написано в разные годы по тому или иному поводу.
Однозначно могу сказать, чем дальше отдаляется то время, тем больше меня по-хорошему удивляет то, что в своей повседневной жизни я никогда не видел проявлений его лагерного прошлого, хотя не могу утверждать, что так было везде, всегда и в любом обществе. Но так или иначе, никаких «вопросов» о наличии эстетизации вульгарной блатной субкультуры или этики, характерной для явившегося в постсоветское время так называемого «шансона», романтизирующего криминальную жизнь, в текстах стихов просто нет, и это доподлинное свидетельство оценки прошедшим годам, творческим установкам и предпочтениям автора.
То, что мне кажется в некоторой степени излишним, – это чрезмерно субъективная и политизированная, начиная с 90-х годов, зачастую не в меру эмоционально перегретая манера изложения мысли. На приводимые доводы о проблемах в стране и т. п. я могу констатировать, что о политических процессах того времени отец профессионально рассуждать не мог, не имея ни связей, ни знакомых в этой среде, и не находясь в ней сам. Сфера ежедневного политического действа для рядового гражданина – это практически всегда целое нагромождение манипуляций, а то и попросту лжи. И если метафорически сравнивать поэзию с неким пламенем духа, призванным к вознесению устремлений и помыслов человеческих к вершинам прозрения бытия, а в случае отца и несомненным процессом очищения от скверны, то помещение в него сиюминутной информповестки тех дней выглядит недостаточно тщательно продуманным действием, и как следствие – творческой эмоционально-психологической девальвацией.
Поэзия отца в целом, на мой взгляд, является примером абсолютно инстинктивно-архаического способа постижения реальности, вскрывающего тайны антропологического кода глубинного русского человека, что и есть самое необычное и любопытное в его творчестве. Из этого не следует, что этот код состоит лишь из набора уникальных или безупречных качеств и характеристик. В стихах он где-то представлен впечатлениями оказавшихся в отчаянном положении 41–42 годов солдат Красной Армии, где-то – такими монументальными персонажами, как полубылинные мятежники протопоп Аввакум, Стенька Разин, поэт Н. Клюев или бунтовщики-стрельцы, где-то – вызванными из памяти прошлого фигурами рядовых зэков, возможных обитателей ИТЛ «Красный Берег» или посёлка Чепец-Глубинный, чьи неприметные биографии никогда не будут образцом для увековечивания в балладах и былинах, а где-то и просто обычными жителями необъятной Руси, от имени которых чаще всего и совершается повествование.
Точнее всего типаж основного действующего лица стихотворений отца соответствует главному герою ленты В. М. Шукшина «Калина красная» Егору Прокудину. Можно говорить о том, что автор фильма в отдельных моментах будто бы экранизировал биографию М. Сопина буквально: мельчайшие нюансы поведения, проблемы адаптации в социуме и т. д. только что вышедшего на свободу персонажа воспроизведены безукоризненно. Но если заглянуть глубже и проанализировать сценарий «Калины красной», то обращает на себя внимание отсутствие в нём истории и обстоятельств взросления Егора Прокудина, т. е. его детство и юность не показаны на экране. А ведь именно обстоятельства этой части жизни имеют решающее значение при формировании психотипа, характера и личности в целом любого человека. Учитывая то, как непросто складывались биографии целого поколения военной «безотцовщины», явившейся в условиях многомиллионных человеческих утрат ВОВ, можно смело говорить о таком сложившемся общественно-социальном антропологическом феномене, как Егор Прокудин. Кинокартина, получившая всенародное признание и горячий отклик у всех слоёв населения, – лишь очередное подтверждение тому, что автор фильма безошибочно нарисовал близкий и понятный всем образ. Глядя на экран, массовый зритель в морально-психологическом плане сопереживал весьма противоречивому «герою своего времени», выходцу из народных глубин, представителю эпохи 60-х. И если в фильме война как фактор, повлиявший на формирование целого поколения, может угадываться разве что косвенно в сцене разговора Любы и Куделихи, матери Егора, или в реплике Любы: «А ведь он правда много повидал, чёрт стриженый», то в стихах отца тема войны представлена как одна из основных и раскрыта максимально объёмно, являясь тем фундаментом, на котором выстраиваются все смысловые конструкции последующего творчества.
Таким образом, Егор Прокудин, как своеобразный «аватар» М. Сопина в мире кино, – это не только вышедший из мест заключения не находящий своего места в окружающей его повседневности человек, но ещё и персонаж, с детства начинённый всеми обстоятельствами и невзгодами военного лихолетья, всеми силами пытающийся вернуться к «нормальной жизни». В этом контексте можно обратить внимание на своеобразную «полемику» с В. Т. Шаламовым, обладателем схожей в смысле «лагерной одиссеи» биографии, но, в отличие от отца, являвшимся реальным политзаключённым. В своих произведениях он, как правило, выступает от лица интеллигенции, глядящей сверху вниз на жизнь простых людей, так или иначе противопоставляя себя «дремучему, необразованному народу», неотъемлемой частью которого считал себя мой отец с пятью классами образования в сельской школе и с одной тетрадкой по всем предметам. Интересным моментом на этом фоне выглядит то, что, завершая среднее образование в вечерней школе в колонии, отец некоторое время даже занимался преподаванием для таких же, как он сам, зэков, но когда столкнулся с бюрократическими учительскими реалиями, то быстро к этому занятию охладел. Разумеется, я не хочу упрощать эту полемику однозначными заявлениями, что «простой народ» в стихотворениях отца представлен как некий прекраснодушный актор, являющийся носителем истин и благополучия. Однако все факты биографии М. Н. Сопина и общая тональность стихов явно свидетельствует о том, что даже при наличии противоречий и сложностей он этому «народу» себя не противопоставляет, а, несмотря на великое уважение к личности и творчеству знаменитого автора «Колымских рассказов», в моменте взаимоотношений интеллигенции и широких народных масс отец явно находится на стороне «коллективного Егора Прокудина». В творчестве отца, например, этот момент можно проиллюстрировать цитатой от лица социально вредного элемента в стихотворении «Трасса»:
И былой СВЭ и уродина
За гонимых, отвергнутых нас
Я приполз в тебя веровать, Родина,
Надсадив сухожилья о наст.
Разумеется, по ходу повествования у читателя могут появиться вопросы, когда и при каких обстоятельствах М. Н. Сопин угодил на лесоповал и т. п. Насколько мне известно, первый раз причина отправки на Волго-Дон в конце 40-х годов формулировалась как незаконное ношение оружия, а повторно уже в Соликамские лагеря он отправился по указу от 04.06.1947 года. В этом случае причиной ареста послужил отнятый на улице кем-то из компании его друзей велосипед, когда они все вместе шли в кино. Вся ситуация усугублялась наличием у нападавшего ножа, а наказание за правонарушение такого рода по тем временам предусматривало от 8 до 20 лет лишения свободы. Отец в стихах так и описывает себя как воришку и беспризорщину, отнюдь не пытаясь изображать невинную жертву режима, а в своих интервью и сам говорил, что на улицах в те годы царил жуткий бардак, и наводить порядок было необходимо. Но это тема уже не этой статьи. В данном случае все перипетии закончились автоматическим разводом с первой женой согласно юридической процедуре при получении 15-летнего срока, а также отказом от него на суде матери, как гласит семейное предание, по идеологическим соображениям. Что-то тут выяснять, наверное, смысла нет, но в стихотворениях есть такая фраза: «От сына отречётся мать, ибо отрекшийся потрафил…». Этой же ситуацией объяснялось и долгое нежелание возвращаться в Харьков к своим родным после выхода из мест заключения.
Выпущенная в 1973 году пронзительная кинокартина В. М. Шукшина «Калина красная» впервые подняла на всенародное обсуждение актуальную, очень непростую идеологически, да и в целом не стандартную для того времени тему. Но лишь намёками, оговорками Любы или монологом Куделихи о трёх погибших на войне сыновьях и четвёртом пропавшем (болтающемся от сумы к тюрьме Егоре), а скорее интуитивно, как «само собой разумеющиеся», угадываются формирующие судьбы персонажей фильма обстоятельства эпохи. Конечно, документально снятый на камеру непродолжительный рассказ Ефимии Быстровой при этом является сильнейшей в своей достоверности сценой, не требующей дополнительных пояснений. Естественно, создатели фильма даже при всём желании едва ли смогли бы уместить в чуть более чем полуторачасовой формат все возможные или подспудно домысливаемые коллизии биографии главного героя, и как следствие – в неполном объёме вскрываются глубинные причинно-следственные связи, породившие такое общественное-социальное явление, как Егор Прокудин. Поразительно уместной в качестве дополняющей иллюстрации к фильму В. М. Шукшина может послужить мини-поэма моего отца «Лунным полем, тёмным бродом». На мой взгляд, основная ценность поэтического наследия М. Н. Сопина состоит именно в том, что оно как раз даёт некий поэтический ключ к наиболее полной расшифровке антропологического кода «поколения Егора Прокудина», а стало быть, всестороннему пониманию того, кем мог являться такого рода неоднозначный, но всё же бесспорный «герой своего времени». Можно сказать, что в части поэтической отец наиболее полно выступил от лица тех, кто в силу всех изложенных обстоятельств либо не умели подобным образом высказаться, либо, подобно герою В. М. Шукшина, не дожили до становления духовного и творческого.
Изложив самые важные, на мой взгляд, аспекты творчества отца, и начав свою работу с его стихотворениями, я исходил из возможности допустить частичные текстовые перестановки или сокращения фрагментов с чрезмерным наличием политических оценок, обличительного пафоса и т. п. Считаю уместным сослаться на примеры подобной деятельности в близкой для меня сфере музыки. Как известно, результатом вмешательства (перестановка частей произведения с целью адаптирования под концертное исполнение) виолончелиста-исполнителя К. В. Фитценгагена в нотный материал П. И. Чайковского стало появление знаменитых на весь мир «Вариаций на тему рококо». За очень редким исключением, именно в редакции артиста, а не композитора это произведение звучит и сегодня, уже более чем сто лет спустя. Не является уникальной практика весьма существенных сокращений, редакций и т. д. в операх и балетах, представляемых на самых разнообразных театральных сценах. Метафорически говоря, мои правки являются своеобразной попыткой «обогащения» наиболее поэтически ценного материала, имеющегося в наличии. Подобно тому, как драгоценные минералы являются на свет в малых количествах, порождёнными гигантскими объёмами вулканических недр и колоссальным давлением, так и эта поэзия ценна и интересна тем, что выплавлялась в экстремальных безднах и катаклизмах человеческого бытия двадцатого столетия, и прорвалась наверх редкими самоцветами, то переливаясь мерцанием трагически насыщенного кровавого рубина, то игрой алмаза чистой воды в лирических эпизодах.
Хотел бы в завершение сказать, как мне представляется возможная реализация творческого наследия отца в современных условиях. Например, выпущенная вологодским издательством «Родники» в начале 2025 года книга «42–24» мною видится как некий протосценарий возможного моноспектакля для чтеца – артиста, выступающего с эстрады. Сам отец предпочитал схожий формат во время выступлений по вологодской области с выездными бригадами от союза писателей.

В заставке использована фотография М. Н. Сопина работы А. Колосова, 2003
© Петр Сопин, 2025
© НП «Русская культура», 2025