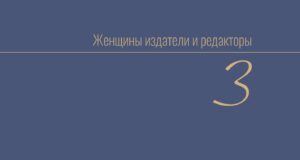Эфир 23 мая 2025 года. https://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/news_detail_v.asp?id=49057 С 9:30 – 26:50
Татьяна Путренко: Вчера в Доме журналистов прошла презентация любопытнейшего сборника «Грани поэзии». Говорим о нём с литературоведом Татьяной Ковальковой.
Добрый день, Татьяна Ивановна. Итак, мы записываемся накануне довольно интересного события в Доме журналистов.
Татьяна Ковалькова: Я бы хотела поблагодарить наш Союз журналистов за поддержку, также и Дом журналистов, которые на протяжении последнего года оказывают всестороннюю помощь нашей Ассоциации «Русская культура». У нас состоится презентация очередного сборника, который мы теперь выпускаем вместо альманаха «Русский мiръ». Он называется «Русский хронотоп». Это уже второй номер. Он называется «Грани поэзии», и презентация будет, конечно, посвящена содержанию этого сборника, но мы решили воспользоваться случаем и немного расширить тему нашей дискуссии, а именно – преемственность в культуре: что это, на чём она основана? Мы пригласили к разговору наших ведущих авторов: философа культуры Дмитрия Михалевского, поэтов – Петра Казарновского, Дмитрия Ивашинцова, Сергея Стратановского, Жанну Сизову, и, конечно, издателя этих сборников – главного редактора издательства «Алетейя» Игоря Савкина.
Т.П.: Но основная идея ведь и первого выпуска этой серии была – преемственность культур разных времен, не так ли?
Т.К.: Да, действительно это тема вдруг сейчас стала очень актуальной, происходят какие-то общественные дискуссии. Вот недавно, например, в Большом драматическом театре произошла дискуссия на тему традиции: что есть традиция? В ней участвовали очень модные люди: Татьяна Черниговская…
Т.П.: Татьяна Черниговская – это исследователь мозга?
Т.К.: Да. Николай Комягин – это лидер поп-нуар группы Shortparis; Юрий Сапрыкин, который известен образовательным проектом Полка; и Дмитрий Данилов, который известен своей пьесой Человек из Подольска. Они рассуждали о традиции и, конечно, с нашей точки зрения, тема той дискуссии выглядит для петербуржцев весьма поверхностной. Практически все участники не петербуржцы, хотя обитают в этом славном городе. Они из Новомосковска, Новокузнецка и так далее… Для них Петербург – это внешняя среда, куда они попали и пытаются вписываться в традицию.
Т.П.: Но они, может быть острее её чувствуют, кстати…
Т.К.: Они, скорее, острее чувствуют своё сиротство. Я бы так сказала, анализируя ту дискуссию. Они бунтуют против традиции, но, с другой стороны, хотят в ней укорениться. Что для нас, как продолжателей петербургской культуры, (петербургского текста) во всех сферах искусства, не является проблемой. Поэтому та дискуссия, которая развернётся на нашей площадке, она будет более онтологичной, что ли.
Т.П.: Но ведь если говорить о традиции и модернизме, то ведь можно вспомнить такие фигуры как Иннокентий Аннинский, который был предшественником модернизма, но не был представителем современной на тот момент поэзии. То же самое о Кушнере можно сказать в контексте поэзии Бронзового века. Наверное, Кушнер к ним не относится. Он, скорее, традиционалист, классик.
Т.К.: Это, конечно, большая тема. Вряд ли мы сейчас сможем проговорить её до конца. Но если уже говорить по существу нашего сборника Грани поэзии, то поэзия Бронзового века, которой мы посвящаем большую его часть, она была заявительной, в том смысле, что она продолжила некоторые направления поэзии Серебряного века, на этом настаивала как бы поверх советской культуры. Но, если глубже исследовать этот вопрос, то получается, что разрыва то и не было. Разве что война, тридцатые годы и уже послевоенные годы. Вот эти 15-20 лет и поэзия тех времён действительно повисает, она совершенно самостоятельной получается и в ряде исследований это прослежено. И, конечно, поэтам, которые начали активно действовать уже в 60-е годы, было чем заняться. Хотя, это только 20 лет. Но 20 лет без преемственности – из рук в руки – это серьёзная вещь. Поэтому они восстанавливали связь и с 18 веком, как мы уже не раз с Вами говорили: Державин, потом Батюшков. И, конечно, Серебряный век, а в нём и русский авангард, традицию которого стали развивать часть поэтов Бронзового века.
Т.П.: Давайте напомним, всё же, хронологию Бронзового века, которую, кстати, Олег Охапкин впервые предложил, да?
Т.К.: Бронзовый век по символическому календарю Олега Охапкина начался в 1956 году. Этот календарь никак не связан с общественно-политической ситуацией. Он определяется циклами культуры, которые он обнаружил в связи с общеисторическими и даже геофизическими циклами, которые человечество проходит. Там и Геродот присутствует в разработке этой системы. Мы можем на веру взять этот календарь, ещё сто раз его проверить, но, во всяком случае, какие-то вещи по нему совпадают. Действительно, явление Бронзового века или второй культуры, которая была в недрах советской литературы, шла параллельным курсом, оно очень разнообразно и требует детального изучения, что сейчас и происходит. Кстати, молодые исследователи находят, что это самая актуальная сейчас тема.
Т.П.: А, всё-таки что будет обсуждаться на этой встрече?
Т.К.: Кроме инициаторов дискуссии, которых я уже назвала к разговору подключатся молодые исследователи, которых мы сами нашли. Это Михаил Бешимов из Высшей школы экономики, Радмир Галиев из Большого университета, исторического факультета, Дмитрий Козлов, он, правда, уже кандидат филологических наук, исследователь советской истории и литературы, и Михаил Иванов (под псевдонимом Серебринский) – он получил премию от журнала Звезда за лучший дебют в 2024 году. Мы тоже ценим молодёжь, за ней следим. Но наша молодёжь несколько иная чем та, что была на площадке БДТ, о которой я уже сказала. Они пока ещё не модные молодые люди в отличии о вышеперечисленных и, не знаю, станут ли модными. Но для петербургской культуры «немодность» — она характерна, ибо всё, что в Петербурге создано в его духе и стиле (так же как всё, что произведено в Париже), уже модно по определению.
Т.П.: Включая одежду…
Т.К.: Да, общий стиль! Хотя часть из наших героев тоже приехала учиться в петербургских университетах, но они впитывают этот стиль через университетскую кафедру, и мы ими очень довольны. Конечно, я детально не знаю, о чём будут говорить наши участники.
Т.П.: Но, тематика известна.
Т.К.: Да, и я вот что хочу подчеркнуть. Всё-таки и петербургский стиль, и петербургский текст включает в себя и внимание к простому человеку, и внимание к теме личности, и отсутствие снобизма, за что борются в других местах. Под грифом «петербургский стиль» это подразумевается априори. И, конечно, петербургский стиль немыслим без воссоединения с какой бы то ни было культурной линией из предшествующих времён.
Что касается поэтов второй культуры, то они открыли и развили не только традиции русского авангарда: обэриутов, Введенского, Хлебникова…
Т.П.: Что было ближе…
Т.К.: Но, как мы уже и говорили, многие из них из рук в руки – от Анны Андреевны Ахматовой лиру восприяли, от Ольги Берггольц, кстати, например, Виктор Ширали. И более того, развитие той или иной традиции не воспринимается творцами как посягательство на их самостоятельность. Это наоборот считается хорошим тоном. Исследователи, когда находят какие-то общие черты отмечают это как положительный момент. Влияние считается признаком культуры.
Т.П.: Та самая преемственность!
Т.К.: Конечно! И это ни в коем случае не подражательность. Но без традиции развиваться невозможно. И разрыв с ней, как раз ведёт к новой дикости, к открыванию колеса.
И, ещё такой важный момент: отличии петербургского стиля не только от провинциалов, которые только пытаются освоить нашу культуру, но и от Москвы. Это старинный, давнишний спор: Москва-Петербург. Но, тем не менее писатели московские… сейчас мне пришёл на ум Борис Евсеев, который борется за литературный язык. У него была любопытная статья в Литературной газете «Жабояз, или Бегство айтишников».
Т.П.: За литературный язык населения или писателей?
Т.К.: За литературный язык как таковой, который, к сожалению, разрушается многими молодыми авторами: это присутствие огромного количества мата в литературных произведениях. Для петербургской культуры это даже не проблема — не из снобизма — просто это немыслимо! Тут всё происходит на более тонком уровне. Это не значит, что молодые авторы, которые вписываются в петербургскую традицию, не современны или не чувствуют пульс времени. Пульс времени без мата вполне можно ощутить и передать. Тем не менее московский стиль, который защищает правильные позиции в культуре и в языке. Поэзия – это хранитель языка. Как писала и Ахматова, и Пушкин – это способ сохранения родной речи как таковой. Именно язык поэзии ее сохраняет в своих метафорах.
Вот московский стиль в защите таких совершенно справедливых культурных ценностей – он очень агрессивен, он идеологизирован, потому что Москва не мыслит культурной политики без политики. И только Петербург, только здесь, в этом чудесном пространстве возможна культурная политика без политики.
Т.П.: И без агрессии…
Т.К.: Именно. И это почему-то ещё не стало общепризнанным фактом. Когда приезжаешь на какие-то культурные форумы, то видишь, как представители толстых журналов проводят время в каких-то политических битвах. И когда приезжает кто-то из Петербурга и интеллигентно говорит о сути культурных процессов, то людям становится скучно. Они не понимают, что там тоже идёт битва, но она духовная! И как раз победа в этих более тонких битвах и приносит тот конечный результат, по которым наши потомки будут судить о том, как мы жили, а не по политическим, сиюминутным итогам, о чём забудут через 10 лет.
Т.П.: Давайте обозреем те самые грани поэзии.
Т.К.: У нас были некоторые разногласия, когда мы этот сборник готовили. Большая часть статей всё-таки посвящена авторам второй культуры. Например, Орфические начала в поэзии Елены Шварц сербского исследователя Корнелии Ичин. Или Эволюция стихотворной формы у Виктора Сосноры. Или О метафизических началах ранней поэзии Олега Охапкина Ксении Голубович. Мы думали, что весь сборник будет посвящен второй культуре, но потом мы поняли, что за последние 5 лет на портале появились такие важные статьи не касающиеся второй культуры.
Т.П.: Да, я вот вижу: Поэтическое измерение творчества Валентина Распутина.
Т.К.: Да, автор из Иркутского университета, доктор филологических наук Ирина Плеханова. Все знают Распутина как прозаика, а статья её называется Валентин Распутин как поэт. Нас эта сторона вопроса заинтересовала.
Т.П.: Или, например, Анималистические мотивы у Георгия Иванова.
Т.К.: Или, например, отклик на стихи сетевого поэта Бабки Лидки. Неожиданный поворот темы: существования поэзии в сети. Статья петербургского исследователя Григория Беневича. И, таким образом, спектр получился широкий: от низовой поэзии до поэзии Серебряного века, — Хлебникова и Елены Гуро. Нам показалось, что такая палитра может быть интересна именно в контексте преемственности и традиции. Поэтому и тема дискуссии не случайно появилась.
Т.П.: А для кого предназначены эти выпуски, как по Вашему?
Т.К.: Это довольно глубокие исследования, поэтому, мне кажется, что это не для самого широкого читателя, но для той молодёжи, о которой мы последнее время печёмся, которая испытывает недостаток в интересных источниках. Те исследования, которые мы печатаем, они, по большей части могут быть отнесены к источникам. Их мировоззрение должно формироваться на серьезных и взвешенных источниках. Поэтому это предназначено для студентов гуманитарных ВУЗов, и я надеюсь, что они оценят наши усилия.
Т.П. Спасибо большое, Татьяна Ивановна, удачи и многих, многих ещё выпусков!
Т.К.: Да, я хочу, кстати, проанонсировать третий выпуск, мы его назвали сербским. Он будет посвящен сербским исследователям русской культуры. Презентация пройдёт осенью и мы, вероятно, ещё поговорим об этом.
На заставке Композиция Эдуарда Штейнберга
© Т.И.Ковалькова, 2025
© ВГТРК Санк-Петербург, 2015
© НП «Русская культура», 2025