О книге: В. Ширали. Простейшие слова. СПб.: Пальмира, 2018. – 287 с.
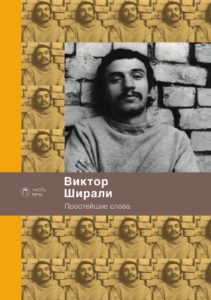 Книга Виктора Ширали (1945–2018) «Простейшие слова» вышла в петербургском издательстве «Пальмира» в мемориальной серии «Часть речи» вскоре после кончины поэта. В этой же серии выходили книги стихов В. Кривулина, О. Охапкина, А. Драгомощенко, В. Топорова и А. Парщикова.
Книга Виктора Ширали (1945–2018) «Простейшие слова» вышла в петербургском издательстве «Пальмира» в мемориальной серии «Часть речи» вскоре после кончины поэта. В этой же серии выходили книги стихов В. Кривулина, О. Охапкина, А. Драгомощенко, В. Топорова и А. Парщикова.
Составителями книги выступили вдова поэта Г. Московченко и Г. Беневич, последний является также автором предисловия. Название «Простейшие слова» взято из стихотворения В. Ширали, написанного в 1970 году: «А что поэзия? / Простейшие слова / В ряду простейших сует». Точности ради следует отметить, что словосочетание «простейшие слова» присутствует и в других стихотворениях поэта, рефреном поэтического кредо проходя через все периоды письма.
Композиционно книга составлена из трёх частей: «стихотворения 1960–1980-х годов»; «стихотворения 1990-х годов»; «последние стихотворения», завершающиеся 2017-м годом. Предваряет разделы стихотворение «Сад», датированное 1968 г. и являющееся эпиграфом ко всему сборнику («сад» как метафора творчества).
Хронологическая расстановка текстов позволяет читателю понять и прочувствовать динамику развития поэзии Виктора Ширали, её тематические и интонационные изменения. Начальная лёгкость, пустотность, эскизность, как бы случайность, ситуативность говоримого к финалу книги уплотняются, размытые орнаменты стягиваются в рельефный рисунок. Хотя сам автор никогда не упоминал о влиянии поэзии Маяковского, однако в ранних стихах влияние декларативного слога весьма ощущается, зрелые же стихи обнаруживают близость к традиции Мандельштама. Основные темы поэзии В. Ширали – любовь, Бог, город, родина, смерть, творчество.
«Всё небо в девках и стихах»
Мы не были знакомы с В. Ширали лично, однако мне он был известен по рассказам наших общих друзей и коллег, а также из городских легенд, которые с лёгкостью свивались вокруг его имени. Почти все легенды были связаны с его любовными страстями, однако, ретроспективно читая его стихотворные свидетельства, представленные в этой книге, убеждаешься в том, что легендами они не являлись. Судя по всему, обойти эту тему деликатно, так же как её возвысить, не получится, да и не имеет смысла, потому как умалчивание или романтизация подробностей исказят и уведут в сторону от настоящего образа Ширали-донжуана, Ширали-казановы («Вот лежит Ширали / как всегда не один, а с подругой»).
Распутник, фат, блудник и сластолюбец – именно таким предстает поэт в стихах первых двух третей книги. Молодость («я музу пробовал на молодой зубок») и страстность, обилие романов, жизнелюбивая похотливость («жизнь, зашедшая в похоть»), флирт («и соблазненье ловко вяжет моя распутная рука»), всё на пути сметающая любвеобильность («переведите ей, что я любвеобилен»).
Кажется, ни одна «прелестница» не могла пройти незамеченной мимо поэта:
«вверх по эскалатору студентка
держит поручень ладонью узкой –
интересно, как у ней с ногами?»
Длинен в книге «помянной список» возлюбленных поэта. Несмотря на то, что Ширали призывает не называть их имен, намерение это оказывается неосуществимой идеей, в воплощение которой вмешивается природный темперамент и поэтическая игра:
Не называй любимых имена,
Была и есть любимая одна.
А имена ей разные дают
– Ну здравствуй!
Как теперь
Тебя
Зовут?
Количество женских имен в книге, представленных в посвящениях, эпиграфах и упоминаниях, может являть интерес для отдельного исследования: «Была Букирь, а стала Соллогуб», «Художнице Елене Мининой», «Из цикла к Арине Владимировне», «Ларисе Олеговне», «Немного Анне, больше Господу», «Рождественское послание в Новгород Полине Спиридоновой» «Т. Г. Гнедич», «Последние стансы к Августе», «Кате Букирь» и т. д. Книга, как улей пчелами, густо населена женскими именами, и создается впечатление невозможности избежать зоны внимания В.Ширали. Его присутствие рядом с женщиной становится фатальным («Господи, я женщину покрою») и коварным («рога выращивая мужу / высаживаю черенки измен»), его взгляд заметлив, а либидо уходит в бесконечность («все женщины пропахли Ширали»).
Здесь в качестве отступления скажу, что всегда испытывала глубокое сочувствие жёнам поэтов. Быть женой поэта — испытание гораздо суровее, нежели быть женой моряка: море житейское в этом случае оказывается горше самого коварного моря, «нижними волнами» всасывающего моряка под воду. И если ставить памятник, то в первую очередь пусть это будет памятник жене поэта – её ожиданию, ревности, тревоге, подозрениям, бытовым заботам, безденежью – беспомощному бормотанию и проклятию странных, не приспособленных к практической жизни стихов, которые оказались причиной, триггером, роковым гипнозом, спусковым крючком этого выстрела навзничь. Быть женой поэта – это награда и наказание одновременно, однако больше наказание; награда настигнет, но не сейчас, а потом, в будущем….
Награда долготерпению и многомилости – в самой поэзии: «Ты сопи немножечко, жена, / Чтоб я знал – немножечко жива», пишет Ширали в стихотворении «К жене», датированном долгим периодом 2004–2014. И здесь же: «молюсь тебе, вернее на тебя / ты просиявшая мне в бытовом окладе». В посвящениях жене, в особенности последних лет, в его стихах отсутствует свойственные ему ирония и игривость, зато звучат особая доверительность и благодарность.
Не хотелось бы, чтобы образ поэта формировался исключительно в связи с его любовными похождениями и увлечениями, которые, действительно, для В. Ширали были источником поэтического вдохновения («всё небо в девках и в стихах»). Любовь для Ширали – это центр мира, его ось, на которую нанизывается всё существование: «Любовь отягощает нас ядром, / всё остальное – чепуха ореха»). Любовь – это способ спасения от одиночества («не убегай любви моей…/ мне не по силам / плыть одному среди морей»). Каждая любовная история сопряжена с драмой разрыва и осознанием этой драмы:
Жива ли ты,
моя толстоножка,
провинциалка.
Я тебя вспоминаю,
и у меня начинается тик,
и обоих нас жалко.
Переосмысление себя, легкомысленности и грубости своих сиюминутных желаний приводит поэта к упованию и надежде на глубокое чувство, «чтобы похоть, которую я бы любовью назвал, / стала всё же любовью». Однако желанию любви сопутствует понимание малости и слабости человеческой, опасение невозможности справиться с большой любовью, вынести её, выдержать:
Ты, мой Боже, виновен тоже
разве можно было оставить
несмышленышей,
недоумков, недомерков
перед любовью?
Раскаяние, покаяние свойственны исповедальной лирике Ширали: «перед Господом я виновен / Лишь в одном: я жену оставил». Перед лицом Бога поэт осознает свои «чудачества» и кощунства и, как христианин в повседневной своей молитве, просит даровать ему снисхождения и прощения, однако при этом напоминает о своем особенном положении, об «искуплении поэзией». «Прости мне Боже святотатство / мои стихи перелистай», – строки из последних, почти предсмертных стихов.
«Сюрровая наша жизнь»
Обыденность предстает в стихах Ширали в виде жирного пира с сытыми телами плодов и толстыми мухами («а в том саду цвела такая муть / а в том саду такая пьянь гнездилась»). Отвращению, иронии и юродивым пляскам сопутствует ожидание «другой» жизни («Еще немножечко – и мы переживём. / Мы перемучим. / Пересможем. / Перескачем»). Однако парадокс поэта заключается в том, что, не принимая «сюрровую эту жизнь», наполненную «стражами порядка», поэт В. Ширали нуждается в ней; проходя через её горнило и накапливая сопротивление, он выковывает голос в ситуации, когда абсурдность происходящего оказывается питательной средой для его стихов, и он это хорошо понимает («дни, нажитые в плаванье, станут изюмом»).
В экзистенциальных переживаниях в сознании поэта постоянно присутствует мысль о смерти, смерть – это его альтер-эго. («Но как же я могу писать о смерти, / когда она во мне / словно листок в конверте?») Его заботит, где, как и когда умереть, он даёт наставления, просьбы, высказывает желания и предположения о своём последнем часе:
Не хоронить,
не подхоранивать,
а в воду опустить…
Что сущее во мне?
Вот сущее.
Таким образом, перед нами предстает с одной стороны, поэт-гедонист с веселой карнавальной жизнью («карнавальный мой Боже, / не прячься за мордой осла»), а с другой – трагически пристальный человек, распознающий и прислушивающийся к промыслу Божьему, готовый к крестному мученичеству: «Дай слинять на крест, / на муки, / это будет счастьем»). Поистине впору здесь вспомнить слова теоретика поэзии, немецкого мистика барона Фридриха Новалиса: «Стих неисчерпаем ровно в той мере, как неисчерпаем и сам человек».
Известно, что Ширали был общителен, о чем говорит обилие посвящений, в том числе друзьям. Среди этих посвящений есть стихи, обращенные к о.Владимиру Цветкову, известному в те годы проповеднику, писателю и публицисту. В. Ширали дружил с о.Владимиром, по свидетельствам, ездил к нему в церковь («Я пришёл к тебе, мой поп»), участвовал в службах («Твоя служба собачьей дружбе подобна / так золота она / искренна так»). В этих стихах есть и восхищение («На страшную службу поставил тебя Господь»), и горделивость, самолюбование, даже фривольность в дружбе со священником («Ах, впрочем, милый, поступай, как знаешь»); их присутствие в книге важно как свидетельство другой, не светской, не заметной постороннему взгляду, но значимой для поэта стороны жизни.
«Одиссей Петербурга»
По воспоминаниям, В. Ширали был жизнелюбив и лёгок на ногу, мог быстро сорваться с места и пуститься в приключение («Флибустьер и наездник, / лёгкие полнятся ветром»). Тем не менее география его стихов, включенных в книгу, не очень широка – как адресаты писем упоминаются Михайловское, Тбилиси, Крым, Монголия. Потому что дом его в Петербурге, именно этот город является пейзажем, декорацией, действующим лицом, «намоленным местом» и средой его обитания.
До Бога далеко,
Но полчаса езды в метро до центра –
А в центр мы ходим так, как ходят в церковь.
Сам В.Ширали называл себя Одиссеем Петербурга. Самое любимое – Летний сад с его осенней осыпающейся листвою, графичностью черных предзимних веток, сюда поэт приходит «посвататься к мертвым богам»: «Что сказать Петербургу, который так ждёт моих слёз?»; дождливый Невский, район реки Смоленки («вставши в очередь у будки / что за морды на Смоленке – / незабудки!»), Фонтанка, медленная Нева, «Кафетерий на углу Владимирского и Невского» – иначе говоря, Сайгон, шпиль Петропавловской крепости становятся не только его домом, но воплощенной идеей о родине, без которой поэт себя не мыслит. В этой связи характерно его стихотворение «Друг мой Левин», где он поясняет своему коллеге по охране лодочной стоянке, отъезжающему во Францию, о непраздном понятии родины, для понимания которой необходимо совершить внутреннее и внешнее усилие, преодолеть «мозоли и проклятья», потому что «родина дается для труда, а не для побега». Только на родине возможно писать стихи, и страшно её лишиться («Мы рождены для жизни на земле /… для страха… / остаться без земли, / без родины, / без праха»), только она создает невыносимые условия, необходимые для преодоления, для сопротивления, пестования той внутренней свободы, которая и есть поэзия.
Как лебедино вы поёте,
когда из вас
Россия прёт…
«Русская тоска», «русский страх» звучат в стихах критически настроенного поэта, противника системы («что русского в тебе осталось, кроме страха?») Но неприятие системы не означает радость от разрушения страны. В 90-е годы Ширали писал мало и больше молчал. «Ширали умер», – так говорил он о себе.
В 2000-х тысячных годах он вновь обращается к письму, в котором по-новому проговаривается тема смерти и последующего за ней первородного возвращения, чтоб «в материнском коконе созреть». Эти зрелые стихи – приготовление к другому бытованию, собирание души для жизни вечной.
Ширали был прекрасным чтецом, что не каждому поэту свойственно. Свои стихи он читал ясно, четко, музыкально, сравнивал их с джазом. Действительно, джазовость присутствует в его поэзии, в особенности если вести речь о «молодых стихах», в которых ощутима импровизация, характерное синкопирование, дерзкая вольность пауз. В текстах также встречаются упоминания различных музыкальных жанров, Моцарта, его 40-й симфонии, а вся жизнь поэта словно умещается в промежуток «от форте к пиано». Зрелые же стихи ритмически больше похожи на псалмы, читаются ровно, с характерным интонационным завитком в конце строфы.
«Я – выкормыш барокко»
В целом поэтика Виктора Ширали мне видится в качестве черного французского кружева шантильи (автор и сам называл себя «выкормышем барокко», где барокко рассматривалось им как «чистая любовь, подзабывшая законы»). Витиеватое и простое одновременно, это было кружево будуаров, верхней и нижней одежды светских красавиц, кружево куртуазных аксессуаров – зонтиков, перчаток, изящных накидок на голову. Кружево вдовы и молодой кокетки, гарсона и короля. На фоне воздушных ромбов шантильи, сплетаемые на плоских подушках из тонких шёлковых нитей, изображали грациозные маки, розы, вьюны. Кстати, роза – один из самых часто упоминаемых цветков в этой книге («лютым декабрём рисованные розы», «ах, твои розы», «роза / одна не расцветает на кусте», «соловья раз спросили / что роза ему, соловью»). Роза в шантильи – это цветок рыцарства и любви. Из шантильи чёрный контур роз позднее перейдёт в искусство арт-нуво, отзвук которого также ощутим в стилистическом рисунке поэзии В. Ширали. Если эти стихи и называть «простейшими словами», то весьма условно (всё-таки создание шантильи требует мастерства и умения, а в поэзии ещё и дара души), как некую внешнюю видимость, в которой, как говорит автор:
Хоть и простенька мелодия моя,
но умел её я выводить,
слез не пряча
и Глагола не тая.
© Ж. Д. Сизова, 2019
© «Русcкая культура», 2020







