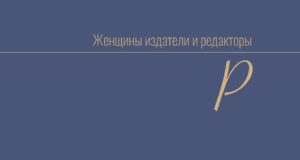Бобан Чурич (1968–2019) – профессор Белградского университета, переводчик. Автор книг «Романы Бориса Савинкова» (2020) и «Из жизни русского Белграда» (2011). Исследователь русской эмиграции в Сербии. Студентами опубликован его курс лекций под названием «Русская эмиграция» (на сербском языке в 2019, на русском – в 2024 году). Сотрудничал с научными журналами Сербии, России и Болгарии. По приглашению читал лекции в университетах в Москве и Нижнем Новгороде. Опубликовал книги переводов русской прозы и искусствоведческих текстов (В. Аксенов, А. Солженицын, Н. Рерих, Б. Акунин, «Документы для понимания русского авангарда» и др.).
Посягательство на право распоряжаться чужой жизнью (в сущности, посягательство на право Бога) в творчестве Бориса Савинкова соотносится с идеей революционной борьбы, и в то же время приобретает более широкое, общечеловеческое этическое значение и истолкование. Тем более, если иметь в виду, что в опубликованном в 1909 году первом романе Бориса Савинкова «Конь бледный» за идеей террора и его идеологическим осмыслением скрывается в образе главного героя, Жоржа, идея нигилистической вседозволенности, реализованная через оправдание убийства правом сильной личности на неограниченную, абсолютную свободу действия (в романе она названа «смердяковщиной» и к революционной идеологии никакого отношения не имеет). Тема политического убийства, убийства из-за идеи, с уровня социального обоснования революционной борьбы переносит свой содержательный центр на этический уровень, выдвигая вопрос морального оправдания идейного убийства. Поэтому феномен террора и террористической борьбы является ключевым элементом идейной основы романа, который необходимо более подробно и содержательно осветить.
В качестве причин широкомасштабной террористической деятельности, развернувшейся в России в последней трети XIX века – первом десятилетии XX века, приводятся разные факторы: разочарование в готовности широких слоев народа пойти на восстание; равнодушие большей части общества к социально-идеологическим вопросам; полное отсутствие какого бы то ни было влияния общественного мнения на власть (если вообще то, что мы называем «общественным мнением», существовало в это время в России); желание отомстить режиму за его суровую расправу с идейными противниками; понимание власти (в лице царя) как неприкосновенного, Богом данного авторитета, который, с распространением атеистических идей, теперь воспринимается как узурпатор.
Источниками русского террора определяются следующие исторические факторы:
- Французская революция, то есть якобинская диктатура, в качестве первой реализованной террористической модели политической борьбы;
- существующая еще с античных времен идея тираномахии, перенесенная на русскую почву убийствами Павла I и Петра III (последний, напомним, был убит в Ропше. Случайно или нет, литературный псевдоним Савинкова, «подаренный» ему Зинаидой Гиппиус, как раз и связан с упомянутым топонимом – Ропшин);
- формирование в середине XIX века русской, в своей сути атеистической, разночинской интеллигенции (пришедшей на смену прежней, аристократической), присвоившей себе право определять, кому жить, а кому нет;
- распространение нигилизма, а именно его основного этического начала – вседозволенности (связанного с понятиями сверхчеловека или же человекобога).
В середине XIX века в рядах русской политической эмиграции в Западной Европе создается круг теоретиков революционного насилия – Бакунин, Лавров, Ткачев, Степняк-Кравчинский. Выстрел члена Ишутинской группы Дмитрия Каракозова в царя Александра II 4 апреля 1866 года представляет собой практическое начало эпохи революционного террора в России. Террор как средство достижения социальных и политических перемен впервые в России теоретически сформулирован за несколько лет до этого события, весной 1862 года в манифесте «Молодая Россия» Петра Григорьевича Заичневского.
Борьба за политическую свободу и социальную правду путем политического насилия обоснована в работах выдающегося народовольца Николая Александровича Морозова «Значение политических убийств» и «Террористическая борьба». Согласно Морозову, террористическая борьба, в отличие от массовых вооруженных выступлений, в которых народ убивает собственных детей, представляется более справедливым видом борьбы, поскольку наказывает лишь настоящих виновников содеянного зла. Сочувственное отношение образованных слоев русского общества к радикальным идеям в большой степени благоприятствовало популярности террора. Симпатии либеральной общественности всегда были на стороне террористов, воспринимавшихся как самоотверженные подвижники, мифические герои-мстители.
Двойственное, фактически лицемерное отношение к проблеме политического насилия, одобрение насилия, исходящего из «наших» идеологических позиций, и категорическое осуждение того же насилия, возникающего с противоположной стороны, стороны идеологических противников, является общей чертой обеих противостоящих сторон – революционеров и защитников порядка. И в савинковском романе «Конь бледный» главный герой, террорист Жорж, указывает на непоследовательность в отношении к политическому насилию, которое зависит от занимаемой критиками идеологической позиции: «Говорят еще, что министра можно убить, а революционера нельзя. Говорят и наоборот. (…) И я не пойму никогда, почему убить во имя свободы хорошо, а во имя самодержавия дурно»[1] (8).
В середине 90-х годов XIX века из разного рода народнических групп и партий образуется партия социалистов-революционеров (эсеров). Цель, задачи и принципы организации террористической деятельности партии эсеров сформулированы в статье выдающегося идеолога и руководителя партии Виктора Михайловича Чернова «Террористический элемент в нашей программе» (опубликованной в седьмом номере подпольной партийной газеты «Революционная Россия» в 1902 году): террористическая деятельность не только «нужна» и «целесообразна», она «необходима» и «неизбежна». Циничным парадоксом истории является тот факт, что человек, никогда лично не участвовавший в терроре, пишет о его «необходимости» и «неизбежности», приводя доводы в пользу нравственного оправдания политического убийства.
Свою террористическую деятельность партия эсеров на самом деле начала раньше «официального» программного объявления террора законным средством политической борьбы. Практика опередила теорию, и статья Чернова появилась в качестве «теоретического ответа» на уже осуществленный теракт – убийство министра внутренних дел Д. С. Сипягина 2 апреля 1902 года. («В начале было дело», – как потом высказался один из руководителей эсеровского террора Григорий Гершуни). Партия эсеров отождествлялась в сознании многих с ее террористическим органом, – основанной в 1901–1902 годах Боевой организацией (вспомним слова террориста Ивана Каляева, что «эсер без бомбы – не эсер»). Важнейшую роль в руководстве организацией, кроме скандально нашумевшего своим сотрудничеством с охранкой Евно Азефа, играли и Михаил Гоц и Борис Савинков. Савинков, по общему мнению, оказался хорошим проводником идеи террора: «Задача Савинкова, с которой он отлично справлялся, – подбирать для “участия в терроре” подходящих людей, готовить их психологически, вдохновлять на самопожертвование ради великих идеалов справедливости и свободы»[2].
Наиболее громкими жертвами эсеровского террора стали министр внутренних дел Вячеслав Константинович Плеве, убитый в 1904 году: московский генерал-губернатор, великий князь Сергей Александрович, убитый в 1905 году; харьковский и уфимский генерал-губернаторы. Борис Савинков в упомянутых терактах сыграл важную роль непосредственного организатора, подготовителя и участника (хотя свои руки он никогда не замарал кровью идеологического убийства).
Первый «удар» по террористической борьбе нанес революционный 1905 год. Царский манифест 17 октября узаконил партийную политическую деятельность и тем самым поставил под вопрос необходимость продолжения террора. Споры об этичности одновременной парламентской политической борьбы и подпольной террористической деятельности потрясали и разъединяли партию эсеров. Борис Савинков – один из немногих членов ЦК партии, который открыто выступал против отмены или временного прекращения деятельности Боевой организации, уверенный в том, что отказ от террора обессилит партию. Морального же противоречия в тезисе, что насильственными и подпольными методами нужно бороться против системы, которую партия признает законной и даже сама в ней участвует своей парламентской деятельностью, Савинков не видел. Эти партийные споры нашли отражение и в романе «Конь бледный», в полемике партийного деятеля Андрея Петровича и Жоржа (19–20, 75–76, 116).
После неудачи первой русской революций и разоблачения предательства Азефа (1908), в общественном мнении ставится под вопрос и дальнейшая поддержка террора. Василий Розанов – один из первых, кто публично осуждал террор. Основу террора Розанов видит таким образом: в политике находится лишь физический корень терроризма. Метафизический же корень выводится из древнейшего начала человеческой истории – жертвоприношения – и самого понятия «жертвы». Идейную основу европейского революционного террора Розанов видит в разного рода христианских еретических учениях о потерянном рае и идеях Жана Жака Руссо о возвращении человека в естественное состояние первобытной невинности. Среди великих борцов против революционного нигилизма, как основы террора и политического убийства, Розанов выделяет Достоевского. Розанов сочувствует праву голодного на насилие, но категорически отвергает любую идеологическую первопричину, оправдывающую убийство с позиций социально-политических отношений. Он неустанно выступал в печати с критикой превозношения террористов. Известен целый ряд его статей в газете «Новое время», напечатанных в течение 1909 года. Большой отклик вызвали, например, статьи «Сентиментализм и притворство как двигатель революции», опубликованная 17 июля, и «О психологии терроризма», опубликованная 25 июля, в которых содержалась полемика с супругами Мережковскими[3].
Идеи «нового религиозного сознания», проповедуемые Мережковским, являются в определенной степени поддержкой революционному насилию. Близкие контакты в Париже Зинаиды Гиппиус и Мережковского с эмигрировавшими из России членами Боевой организации партии эсеров, Савинковым прежде всего, уверенность Мережковского, что Савинков и эсеры могут осуществить его идеи христианской революции как единственного пути к новому религиозному сознанию и Третьему царству, Царству Святого Духа, в романе «Конь бледный» (который Савинков как раз и писал в Париже (1907–1908 гг.) в период дружбы с Мережковским и 3. Гиппиус) нашли свое отражение в идейном осмыслении героя Вани и его концепции убийства из-за любви, из-за Христа.
Русские мыслители, собравшиеся вокруг сборника «Вехи» (1909), в идее политического убийства видели апологию этического нигилизма, «отражение метафорической абсолютизации ценности разрушения»[4]. Один из авторов сборника, Семен Франк, дает убедительный психологический портрет революционера, оправдывающего убийство: «Социалист – не альтруист; правда, он также стремится к человеческому счастью, но он любит уже не живых людей, а лишь свою идею – именно идею всечеловеческого счастья. Жертвуя ради этой идеи самим собой, он не колеблется приносить ей в жертву и других людей. В своих современниках он видит лишь, с одной стороны, жертвы мирового зла, искоренить которое он мечтает, и с другой стороны – виновников этого зла. Первых он жалеет, (…) последних он ненавидит (…). Это чувство ненависти к врагам народа и образует конкретную и действенную психологическую основу его жизни. Так из великой любви к грядущему человечеству рождается великая ненависть к людям, страсти к устроению земного рая становятся страстью к разрушению, и верующий народник-социалист становится революционером»[5].
Напомним, что эсеры делали категорическое различие между идейным убийством и убийством, совершаемым по личным причинам, никоим образом не допуская последнее. Террорист Егор Сазонов в письме из тюрьмы после убийства министра Плеве писал: «Личных мотивов к убийству министра Плеве у меня не было. (…) я никогда бы не поднял руку на жизнь человека по личным побуждениям»[6]. По словам Владимира Зензинова, публициста и члена Боевой организации эсеров, «для нас, молодых кантианцев, признававших человека самоцелью и общественное служение обусловливавших самоценностью человеческой личности, вопрос о терроре был самым страшным, трагическим, мучительным. Как оправдать убийство и можно ли вообще его оправдать? Убийство при всех условиях остается убийством. (…) Единственное, что может его до некоторой степени если не оправдать, то субъективно искупить, это принесение при этом в жертву своей собственной жизни. С морально-философской точки зрения акт убийства должен быть одновременно актом самопожертвования»[7]. Ссылаясь на немецкую философию, на нравственный императив Канта, сторонники права на политическое убийство придают ему философскую подоплеку (в которую, кроме Канта, мы включаем и Фихте и, отчасти, Ницше).
Убийца великого князя Сергея Александровича, близкий друг Савинкова Иван Каляев в терроре видел «не только наилучшую форму политической борьбы, но и моральную, быть может, религиозную жертву»[8]. В духе подвига Христа видел террор и уже упомянутый убийца Плеве Егор Сазонов, когда с каторги писал: «Я считаю, что мы – социалисты – продолжили дело Христа, который проповедовал братскую любовь между людьми и умер как политический преступник, за людей. Не слава прельщала нас. После страшной борьбы и мучений только под гнетом печальной необходимости мы брались за меч»[9].
По мнению многих историков, самое большое содействие моральному оправданию террора, и в то же время моральной его дискредитации оказал своим творчеством Борис Савинков – мемуарно-публицистическим в первом случае, литературно-художественным во втором. Он был важнейшей и, после Азефа, самой противоречивой фигурой эсеровского террора. Его очерки о товарищах по Боевой организации Сазонове, Каляеве, Доре Бриллиант, Максимилиане Швейцере представляют собой настоящие революционные «жития». Опубликованные в течение 1908–1910 годов в эсеровских заграничных журналах «Былое», «Социалист-революционер», в газете «Знамя труда», они объединены под названием «Воспоминания террориста» (1917–1918 г. в журнале «Былое», 1926 г. отдельное издание, Харьков)[10].
Исследователи в «Воспоминаниях» чаще всего видят пропаганду и идеализированный образ террора, выражая сомнение в их правдивости. Вопрос в том, в какой степени показанные герои соответствуют реальным личностям-прототипам и их идейному и нравственному складу, а в какой степени отражают авторские мысли и идеи? Историческая объективность во многих конкретных сценах попадает под сомнение: современники в авторе замечают конфликт историка-биографа и художника в ущерб первому: «беллетрист Савинков всюду и везде вредит образу Савинкова-революционера»[11]. Если иметь в виду, что «Воспоминания» написаны с очевидной целью реабилитации террора после разоблачения провокатора Азефа, становится понятным, почему в них на деле такая явная идеализация членов Боевой организации эсеров.
Замечая постоянную потребность автора копировать других, историк и публицист М. Горбунов (Е. Е. Колосов) выражает опасение, что портреты террористов в «Воспоминаниях» даны Савинковым такими, чтобы как можно больше они походили на героев «Коня бледного» (напомним, что роман «Конь бледный» и «Воспоминания террориста» создавались приблизительно в одно и то же время). Как бы мы ни относились к проблеме объективности или исторической правдивости портретов террористов, бросается в глаза авторское стремление показать в них титанизм идеи, мужество, высокую нравственность и готовность пойти на жертву ради будущего человечества. Многие из них показаны глубоко верующими, с чувством морального долга, в духе христоликой жертвенности: Каляев (46), Дора Бриллиант (48–49), Сазонов (49), Татьяна Леонтьева (109), Мария Беневская (170–171).
В какой степени «Воспоминания террориста» говорят о понимании террора самим автором, Савинковым? В весьма малой, почти символической. Автор о терроре высказывает свое мнение лишь однажды, в самом начале публикации, коротким нейтральным заявлением о принятии террористического метода борьбы, и уточняет: «В вопросе террористической борьбы <я> склонялся к традициям “Народной Воли”» (25). В то же время, как уже было сказано, многие в позициях героев «Воспоминаний» усматривают авторские идеи и позиции. Самому Савинкову, замечают исследователи, близко ощущение жертвы: «Элементы жертвенного героизма, тайного преступления и холодной жестокости сливались в жизни Савинкова в одно целое»[12]. Ощущение революционного элитизма также характерно для Савинкова: «С идеологией террора он впитал идеи избранничества»[13]. «Авторскими» характеризуют и колебания в нравственной оценке террора (например, 3. Гиппиус: «Савинков сам как будто чувствовал себя убиваемым – убивая. Говорил, что кровь убитых давит его своей тяжестью»[14]). Другие исследователи утверждают, что нравственные дилеммы свойственны не террористам-эсерам в целом, а лишь одному, стоящему особняком в идейном плане члену Боевой организации эсеров, близкому товарищу Савинкова Ивану Каляеву[15].
Нравственные сомнения лежат в основе его литературных произведений, тема которых – террор: «Конь бледный» (1909) и «То, чего не было» (1912). Савинков первый в художественной форме литературного произведения заговорил о страшных душевных волнениях террориста-исполнителя, о «праве» на убийство и недоумениях по поводу присвоения этого права себе: «Борис Савинков раскрывает очень сложную природу терроризма, те внутренние силы, которые втягивают в него людей. По мнению автора, здесь перемешаны социальная ненависть, доведенные до экзальтированности и фанатизма религиозные чувства и ложно понятая романтика в сочетании с личной неудовлетворенностью, тщеславием, склонностью к авантюризму, и многим другим. Самому Савинкову кое-что из перечисленного, видимо, тоже не было чуждо»[16].
В отличие от существовавшей до тех пор апологии террора в литературных произведениях, например, видного писателя-террориста Сергея Степняка-Кравчинского (романы и повести «Подпольная Россия», «Андрей Кожухов», «Штундист Павел Руденко», «Домик на Волге»), с очевидной идеализацией образа террориста, в романах Бориса Савинкова в центре авторского внимания – нравственная сторона личности террориста и попытка осмысления «права» распоряжаться чужой жизнью. Савинков интересуется не каноном, а отступлением от канона, его вырождением, разрушением и обессмыслением. Дух и слово Библии, которые для Степняка-Кравчинского представляли удобный способ революционной пропаганды («Штундист Павел Руденко», например), для Савинкова являют нравственный эталон оценки революционного террора (своеобразный идейный «лакмус»). Центр тяжести в интересе к террору переносится с идеологического уровня его осмысления на уровень личности, участвующей в нем, и на этическую сторону террора.
Поэтому в центре внимания – отношение к террору прямых участников, исполнителей, членов террористической группы, во главе с главным героем, Жоржем. Пять членов группы (вспомним знаменитую «пятерку» в «Бесах» Достоевского) высказывают свое особое отношение к террору и причины своего участия в нем. Имея в виду исторические источники образов героев романа – членов Боевой организации, вероятным окажется предположение, что герои романа в какой-то степени отражают и мотивировку участия в терроре некоторых из членов эсеровской террористической организации. При этом в романе почти не проявляется отношение власти и общественного мнения к террору. Причина тому, прежде всего, своеобразная форма романа – дневниковые записки вождя террористической группы, безразличного к мнению другой, противоборствующей стороны. Официальный взгляд на террор, крайне отрицательный, дан в приводимых в романе газетных статьях, в которых описаны отдельные террористические акции (как своеобразный «взгляд со стороны»). Выбор слов и выражений, которыми описывается происшествие, отражает официальную позицию по отношению к террористам: они – «преступная шайка», их акция – «злодейский умысел» (70), «злодейское дело» (93). Высказываний отношения к террору обыкновенных граждан, никоим образом не участвующих в нем, – практически нет вообще. Савинков в романе не показывает поддержку террористической деятельности широкими слоями гражданской интеллигенции до революции 1905 года. Может быть, из-за того, что роман написан после революции, в эпоху «отрезвления» общественности и разочарования в террористических методах борьбы.
Свое участие в терроре по идеологическим причинам мотивирует только один член террористической группы – Генрих. Это «правоверный» последователь партии, верующий в эсеровский лозунг «в борьбе обретешь ты право свое», уверенный в том, что террор необходим для достижения свободы, «что так нужно для победы социализма» (12). Генрих верит в будущий «рай на земле», с нетерпением ожидает день, когда рабы победят владык (136), верит в социальное преображение общества путем революционного насилия: «Теперь увидят, как мы сильны, поймут, что партия победит, не может не победить» (124). На прямой вопрос Жоржа, зачем он идет в террор (81), Генрих отвечает: «Так не могу я не идти. Какое право имею я не идти?.. Ведь нельзя же звать на террор, говорить о нем, желать его и самому не делать» (82; привычная позиция в рядах бомбистов Боевой организации). Однако именно из-за недосмотра Генриха проваливается запланированная акция (80–82). Главному герою, отказывающемуся повиноваться партийным постановлениям, «правоверный» Генрих неинтересен, поэтому в записях ему уделяется мало внимания.
Двумя причинами мотивируется участие Федора в терроре: ощущение социальной несправедливости (58–59) и желание отомстить за смерть жены (9–10). В сознании героя террор воспринимается как двойное возмездие: на классовом и на личном уровне.
Мотивы участия героини Эрны в революционном терроре до конца не объяснены. С одной стороны, героиня заявляет, что ей «стыдно жить» (12); но с другой, проявляется ее психическая неустойчивость: «Я не могу жить убийством» (83). Кроме желания поскорее умереть, она к террору привязана и личной эмотивной трагедией, рабской преданностью вождю революционной пятерки Жоржу и получаемыми от него подачками «любовной милостыни».
Ваня – тип революционера, идейно очень близкого небольшой, но весьма значительной группе соратников Савинкова, членов Боевой организации с сильным религиозным восприятием террора и революционной борьбы в целом, наподобие уже упомянутых Егора Сазонова, Марии Веневской и, особенно, Ивана Каляева (об этой близости, возможно, говорит и сходство их имен). Ваня – революционер во имя Христа: «вот идет революция крестьянская, христианская, Христова. Вот идет революция во имя Бога, во имя любви» (29), террорист, идущий на убийство по любви: «Убий, чтобы не убивали. Убий, чтобы люди по-Божьи жили, чтобы любовь освятила мир» (63). Политическое убийство и неминуемое наказание убийцы, отдача собственной жизни взамен забранной чужой, понимается в духе христианского жертвования собой ради ближних своих. Подобно Марии Веневской, о которой Савинков пишет в своих «Воспоминаниях террориста», что на вопрос, почему идет в террор, она ответила библейской сентенцией («Иже бо аще хочет душу свою спасти, погубит ю, а иже погубит душу свою мене ради, сей спасет ю», 171; Лука 9:24), и Ваня свое участие в терроре мотивирует цитированием Евангелия («нет больше той любви, как если за други своя положить душу свою», 12; Иоанн 15:13). Ваня в то же время проникнут истерзавшими его совесть чувством «долга революционера» (105) и грехом пролитой крови («убийство тяжкий грех», 12). Однако из-за любви к людям он готов взять на себя крест греха («Если крест тяжел, – возьми его. Если грех велик, – прими его», 14), чтобы подобно мученику пострадать, в твердой уверенности, что Христос в Своем милосердии простит его за грех по любви («А Господь пожалеет тебя и простит», 14; «Мой грех безмерно велик, но и милосердие Христа не имеет границ», 106).
Оппонентом Вани в идейном плане является главный герой романа, Жорж. Несколько раз для себя он признается, что не знает, почему он в терроре (12, 136–137, 142–143). На вопрос возлюбленной «зачем?» (46), Жорж один единственный раз пытается сформулировать связный ответ, который в конце концов все-таки остается невербализованным: «Я хочу ей сказать, что кровь очищает кровь, что мы убиваем против желания, что террор нужен для революции, а революция нужна для народа. Но почему-то я не могу сказать этих слов» (46). Обыденные революционные лозунги, не отражающие и позицию самого героя, представляют лишь пустословие, и поэтому не «заслуживают» быть высказанными (обращаем внимание на первые заявления героя о терроре в начале повествования: «Я не знаю почему я иду в террор», 12; «Я не знаю почему нельзя убивать», 8). Вопросы, которые поднимает герой, остаются до конца повествования открытыми, без окончательного ответа. При этом Жорж далек от нравственных колебаний Вани; ему чужд двойственный подход к вопросу нравственного оправдания террора: «Одно из двух: или “не убий” и тогда мы такие же разбойники, как Победоносцев и Трепов (ненавистные представители режима – Б. Ч.). Или “око за око и зуб за зуб”. А если так, то к чему оправдания? Я так хочу и так делаю» (23).
«Право» на убийство Жоржем соотносится с отсутствием твердых этических норм: «Если бы у меня был закон, я бы не убивал» (56). Вопрос о политическом убийстве Жорж явно переносит в этический план и разрешает его в духе христианской этики. Совсем иное дело факт, что христианская этика героем не воспринимается как «своя». Во всяком случае, пролитие крови для Жоржа лишено какой бы то ни было идеологической основы или же отношения к революционной борьбе за социальную справедливость. Об этом свидетельствует его отказ покориться постановлениям комитета, презрение к мотивировкам участия в терроре остальных членов группы, так же, как и совершенное убийство (второе убийство в романе) по личным причинам (драма любовного треугольника на почве ревности). Право на убийство в соображениях главного героя – лишь тест, окончательная проверка силы собственной воли, провозгласившей абсолютную свободу и проистекающее из такой свободы право на вседозволенность («Вся моя воля в одном: в моем желании убить», 50). Что-то наподобие ницшеанского сверхчеловека или же образа героев-нигилистов у Достоевского. В ключе Достоевского Савинков изображает и крушение таким образом осмысленной личности (Жорж в конце повествования решается на самоубийство), которой, как вполне деструктивной, противопоставляется единственный возможный этический кодекс – в духе библейской заповеди «не убий».
Роман «Конь бледный» является наглядным примером савинковского отрицательного отношения к террору, неприятия по этическим причинам идейного убийства, вопреки представленному в «Воспоминаниях террориста» активному террористическому прошлому автора. Савинков-литератор спорит с Савинковым-революционером, создавая сложную, загадочно-противоречивую фигуру русского двуликого Януса.
Примечания
[1] Цитаты из романа приводятся по следующему изданию, с указанием в скобках страницы: Ропшин В. (Борис Савинков). Конь бледный. Ницца, 1913.
[2] Архипов И. Борис Савинков: террорист и литератор / «Звезда», № 10, 2008. С. 107.
[3] О полемике Розанова с Мережковским по поводу террора см.: Гончарова Е. И. Контуры жакерии (В. Розанов и Мережковский) / «Русская литература», № 4, 2006. С. 114–131.
[4] Франк С. Л. Этика нигилизма / Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1909; переизд. «Посев», Франфурт, 1967. С. 195.
[5] Там же. С. 193.
[6] Цит. по: Чернов В. М. Перед бурей. Нью-Йорк, 1953. С. 187.
[7] Зензинов В. М. Пережитое. Нью-Йорк, 1953. С. 108.
[8] Цит. по: Савинков Б. Воспоминания террориста / Савинков Б. Избранное. М., 1990. С. 46.
[9] Цит. по: Иоффе Г. То, что было. К 130-летию со дня рождения Б. Савинкова / «Новый журнал», № 254, 2009.
[10] Цитаты и ссылки на текст «Воспоминаний террориста» даются по следующему изданию, с указанием в скобках страницы: Савинков Б. Избранное. М., 1990.
[11] Тютчев Н. С. Заметки о «Воспоминаниях» Б. В. Савинкова / Савинков Б. Воспоминания террориста. Л., 1990. С. 367.
[12] Мнение революционера-публициста, близкого сотрудника Савинкова К. Вендзягольского см. в: Кельнер В. Е. На волнах террора / Савинков Б. Воспоминания террориста. С. 9.
[13] Там же. С. 11.
[14] Гиппиус З. Дмитрий Мережковский / Гиппиус 3. Н. Собрание сочинений в 15 т. Т. 6. Живые лица. Воспоминания. Стихотворения. М., 2002. С. 320.
[15] Горбунов М. (Колосов Е. Е.). Савинков как мемуарист / Савинков Б. Воспоминания террориста. С. 425.
[16] Иоффе Г. То, что было. К 130-летию со дня рождения Б. Савинкова.
На фотографии в заставке: Борис Савинков (в центре) и генерал Лавр Корнилов (слева), август 1917 г.
© Бобан Чурич, 2015
© НП «Русская культура», 2025