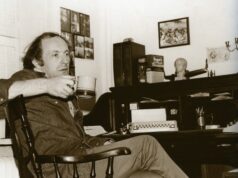Eлена Кусовац (род. 1979 г.) – профессор филологического факультета Белградского университета. Автор научных публикаций о русском авангарде, художественном андерграунде и московском концептуализме, а также монографии «От абсурда к психоделике». Переводчик Д. Хармса, К. Малевича, Е. Фанайловой, А. Монастирского, П. Пепперштейна.
Московский концептуализм стал первым (после русского авангарда) художественным направлением, хронологически совпадающим с западными движениями в искусстве. Первые работы московских концептуалистов относятся к концу 60-х – началу 70-х годов, времени, когда основывались концептуалистские группы на Западе. Именно этот факт определяет мнение одного из немногих исследователей московского концептуализма, теоретика культуры Виктора Тупицына, который считает, что «отечественный модернизм 10-х, 20-х и 30-х годов повлиял на формальные опыты шестидесятников в значительно меньшей степени, чем западный, пригревший невостребованный у себя на родине призрак русского авангарда»[1].
Шестидесятники, принадлежавшие к подпольной культуре в узком смысле, а к неофициальной в широком, представляли собой немалый круг художников, поэтов, мыслителей и философов того времени, собиравшихся в герметически закрытом мире собственных квартир и мастерских, чтобы показывать друг другу работы, читать поэзию и обсуждать основные темы их искусства, среди которых главенствовала тема страха – реального, метафизического, экзистенциального[2].
Закрытое общество, несвобода, идеологизация быта и языка, постоянное ощущение страха, невозможность самоидентификации в творческом и личном плане – все это приводило к появлению художников, которые хотели убежать от официальной культуры и идеологии. В такой напряженной атмосфере в рамках неофициального искусства и создается московский концептуализм как направление. Некоторые его основоположники (И. Кабаков, В. Пивоваров, Д. А. Пригов, А. Монастырский) формировались именно в этом кругу неофициального искусства, которому принадлежали художники Евгений Кропивницкий, Оскар Рабин, Владимир Янкилевский, Борис Турецкий, Владимир Пятницкий, Василий Ситников, Владимир Яковлев, Эрнст Неизвестный, Юло-Ильмар Соостер, поэты Всеволод Некрасов, Генрих Сапгир, Игорь Холин, Овсей Дриз и др. В то время главным видом изобразительного искусства были станковая живопись и графика, и в художественных институтах и по форме, и по содержанию они были скованы жесткими правилами и нормами. Творческая свобода, личная печать художника должна была держаться в рамках канона официального искусства. Кабаков, поступивший в 1951 году на отделение графики в Суриковский институт, вспоминает тот период в своих записках о неофициальной жизни в Москве как период, в котором «вся учеба, и в школе художественной, и в художественном институте, вся как бы была “для них”, а не для себя, чтобы они были довольны, не выгнали (из школы, института), чтобы все было похоже на то, что “они” требуют»[3].
Творческая свобода художника была настолько ограничена, что единственным ее проявлением были у Кабакова его записи в альбомах, которые ученики должны были «заполнять набросками и эскизами»[4]. Кабаков вспоминает: «Возможно, что это “текстоблудие” привело потом к идее введения текста в изображение, участию в картине “на равных” изображения и текста»[5] и к созданию альбома как жанра, в котором работали И. Кабаков, В. Пивоваров, а позже и П. Пепперштейн. С другой стороны, этими «бесконечными текстами» в альбомах Кабаков продолжил авангардистскую традицию теоретизирования искусства в своих записках (напр., К. Малевич, В. Кандинский) и проложил дорогу к некоторым дискурсам московской концептуальной школы: комментированию, интерпретации и самоинтерпретации.
Итак, в 1970-е годы Илья Кабаков и Виктор Пивоваров начинают работать в новом для советской живописи жанре – в жанре альбома. Альбомы являли собой серии отдельных листов бумаги с графическим изображением и текстами, при знакомстве с которыми был важен сам процесс перелистывания, при котором, по высказыванию Кабакова, возникает «идеальная психофизическая модель текущего времени»[6], а сам процесс носит ритуальный характер[7]. Альбом как художественный жанр можно в каком-то смысле сравнить с литературным «жанром картотеки», изобретенным Л. Рубинштейном. Хотя в первом случае речь идет о визуальном восприятии, а во втором – о слуховом, в обоих случаях зритель / слушатель имеет дело с течением времени, а не со статикой, характерной для просматривания картин или чтения текста, а также встречается с серийностью произведения. Паузы, пробелы или разрывы (которые можно трактовать и как «отсутствие события»[8], имеющие место при чтении реплик с рубинштейновских каталожных карточек или при перелистывании альбомов, предоставляют слушателю или зрителю возможность глубже уловить информацию и лучше обработать ее в собственном сознании. Е. Бобринская считает, что об альбомах Кабакова и Пивоварова, как и о некоторых объектах и проектах Герловиных, акциях Алексеева, можно с полным правом говорить как «о произведениях литературного творчества»[9]. Границы между искусством и текстом исчезли. Кабаков в то время создает два своих знаменитых цикла: Десять персонажей[10], состоящий из десять альбомов (1970–1975), и 23 альбома под названием На серой и белой бумаге (1975–1978).
Альбомы представляют собой основной жанр в творчестве и Пивоварова, в котором он продолжает работать до сих пор, в отличие от Кабакова, который закончил работать в этом жанре в 1978 году. Многие альбомы Пивоварова посвящены темам одиночества, забвения, поиска художественной и экзистенциальной идентичности, ностальгии (Лицо 1975, Проект для одинокого человека, Конклюзии) и некой абсурдной корреляции между человеком и уму непостижимым миром. Поскольку зритель охвачен атмосферой картин, работы Пивоварова рассчитаны на долгое и пристальное рассматривание, на созерцание. Одиночество, изоляция, монотонность, бессобытийность и пустотные миры Пивоварова представлены в метафорических и условных образах. Автор выбирает для своих метафизических пространств одиноких героев-эйдосов, иногда человекообразных, но часто – геометризованные силуэты без лица и эмоций, в которых обитает душа[11]. Его эстетический субъект, «художник-персонаж», превращается в «маленького человека» в прямом и переносном смысле. В художественном эксперименте Микрогомус 1979, задуманном как часть большого альбомного «романа»[12], герой ощущает ужас и угрозу от предметов быта вокруг себя, за которыми он пристально наблюдает и чью энергию «злых точек» постоянно ощущает, пока сам не исчезнет, спрятавшись в спичечном коробке в ящике рабочего стола. Он уходит в ландшафт, внутрь коробка, что можно считать экспериментом в пределах картинного пространства, характерного для большинства неофициальных художников того времени, прежде всего Эрика Булатова. Однако отношение Пивоварова к одиночеству является амбивалентным. Оно представлено и как высшая степень аскетизма[13], в котором человек остается наедине с самим собой, со своей душой, с сознанием и восприятием личных отношений с окружающим миром. Он прячется за кулисы собственной души, потому что «там просторно, загадочно и прохладно, и там проживает бесконечность»[14].
В 70-е и 80-е годы многие концептуальные художники объединяются в художественные группы, в т. н. «коллективные» или «коммунальные» тела московского концептуализма: «Гнездо» (Геннадий Донской, Михаил Рошаль и Виктор Скерсис; 1975–1979), «Коллективные действия» (Андрей Монастырский, Никита Алексеев, Георгий Кизевальтер, Николай Панитков, Игорь Макаревич, Елена Елагина, Сергей Ромашко, Сабина Хэнсген; 1976–1989), «Мухоморы» (Свен Гундлах, Константин Звездочетов, Владимир Мироненко, Сергей Мироненко, Алексей Каменский; 1978–1984), СЗ (Виктор Скерсис, Вадим Захаров; с 1980 г.) и др.
«Коллективные» и «коммунальные» тела являются важными концептуальными примерами московского концептуализма. Ими, среди прочих, занимались философ М. Рыклин и теоретик искусства В. Тупицын. Так, в своей работе «Террорологики» М. Рыклин охарактеризовал «коллективные» тела как «тела, закрепляющие свое единство на уровне речи и, тем самым, не поддающиеся разложению на составляющие индивидуальные компоненты; линия тела в них не проработана, линия же речи переразвита. Идеология коммунизма была возможна лишь в климате, созданном преобладанием таких тел»[15]. Что касается «коммунальных» тел, то под этим термином Рыклин подразумевает «коллективные тела на стадии первичной урбанизации, когда их агрессивность усиливается под влиянием неблагоприятного окружения. Особое значение для формирования этого термина имели работы И. Кабакова, В. Пивоварова, В. Сорокина и Медгерменевтики, а также беседы с А. Монастырским и И. Бакштейном»[16].
Коллективность и коммунальность отражаются в поддержании группового творчества, соавторстве, и важность этой коллективности состояла не столько в создании совместных работ, сколько в их совместном обсуждении, анализе и комментировании. Коллективность стала важным признаком, например, творчества Пепперштейна: создание группы Инспекция «МГ», соавторство с С. Ануфриевым и В. Мазиным, кинематографические проекты с Наташей Норд или музыкальные с рэп-группой «Треш Шапито-Кач».
Важно иметь в виду, что московский концептуализм 70-х годов был не только стилем в искусстве, но и стилем жизни. А. Монастырский пишет: «Концептуализм в Советском Союзе – это вещь не случайная, она соприродна нашей системе, нашей социальной сфере, где место предметности очень маленькое. Мы собственно живем в концептуальном пространстве»[17]. Художники жили не только в концептуальном, но и в психоделическом пространстве, так как все время им демонстрировали одно – официальную идеологию, соцреалистическое искусство, тоталитарную систему, – а на самом деле все происходило по-другому – в вакууме и подполье параллельного универсума.
В 1976 году Андрей Монастырский создает группу «Коллективные действия», просуществовавшую до 1989 года. На протяжении 13 лет они организовали более 120 перформансов, в которых центром внимания были такие абстрактные категории, как время, пространство, человеческое тело в пространстве, позиция созерцания, расстояние, а также проблемы человеческой психики, сознания, восприятия и отношения субъективности и объективности[18]. Это приводит к новому пониманию искусства не только через визуальное, но и через интеллектуальное восприятие работ. Интерпретация знаков, символов, заложенных в концептуальных работах, как и тотальная идеологизация пространства вокруг, становятся главным признаком московского концептуализма. Картина теперь отходит на другой план, ее заменяет объект, инсталляция, акция, перформанс, хэппенинг.
80-е годы отличались яркой художественной жизнью московской концептуальной школы. Художники дистанцировались от советского общества и искали возможности заниматься искусством, избегая активного политического участия. Они создавали свои художественные миры, в которых художественный акт являлся аполитичным. Экспозиционное пространство художников было закрытым почти до второй половины 80-х годов, когда постепенно зарождается выставочная жизнь не только в СССР, но и за границей. Тогда русское искусство впервые сталкивается с рынком.
В 1979 году в Париже под редакцией Игоря Шелковского и Александры Обуховой начал выходить «А – Я» – журнал русского неофициального искусства (1979–1986), который за 7 лет выпустил 8 номеров. В первом номере этого журнала один из важных теоретиков московского концептуализма Борис Гройс назвал московский концептуализм «романтическим», подчеркивая, что «единство коллективной души еще настолько живо в нашей стране, что мистический опыт представляется в ней не менее понятным и прозрачным, чем научный»[19]. Автор считал, что именно «с мистической религиозностью связан и некоторый специфический “лиризм” и “человечность искусства”»[20]. Такой лиризм характерен для многих концептуальных художников: В. Пивоварова, И. Кабакова, группы «Коллективные действия», П. Пепперштейна. И именно лиризм, подчеркнутая эмоциональность и ностальгические ощущения отличают московский концептуализм от сугубо интеллектуального западного. В конце 1980 года А. Монастырский и Л. Рубинштейн основывают «Московский Архив Нового Искусства – МАНИ», который включает в себя работы группы «Коллективные действия», А. Монастырского, В. Захарова, К. Звездочетова, С. Ануфриева, П. Пепперштейна, И. Макаревича, Л. Рубинштейна, Д. А. Пригова, И. Кабакова. Вполне возможно, что это название можно отнести к санскритскому слову manas, oт корня man, что означает ум[21].
С другой стороны, говоря о московском концептуализме, А. Монастырский обращает особое внимание на прилагательное «московский», подчеркивая, что «в слове “московский” больше свободы, чем в словах “русский”, “советский”, или “американский” концептуализм»[22]. Монастырский собирает документацию перформансов «Коллективных действий» и публикует ее в пяти томах «Поездок за город», а фотографии и машинописные тексты – в сборниках и папках МАНИ в период с 1982 по 1988 год. Тогда же Пепперштейн продолжает работать в жанре альбомов и создает большинство из них с 1982 по 1986 г. Самыми известными из них стали Наблюдения, Ленин, Рисунки Сталина.
Хотя сам художник говорит, что у него было довольно много разных периодов, мы грубо разделим его художественное творчество на три больших: «альбомный» период 80-х годов, медгерменевтический период – период творчества в рамках группы Инспекция «Медицинская герменевтика» (1987–2001), и нацсупрематистский период с начала нулевых, когда художник, возвращаясь к индивидуальному творчеству, работает в основном в стиле нацсупрематизма[23] и распространяет свою деятельность на фильм, музыку и создание перформансов. Связующим звеном между этими периодами является психоделика.
Игра с аутентичностью (в поисках Другого)
Игра с аутентичностью, альтернативной историей, подмена авторства и идентичности, придумывание альтер-эго, художника-персонажа, а позже и зрителя-персонажа, критика-персонажа и идеолога-персонажа являются важными концептами некоторых художников московского концептуализма. Термин «художник-персонаж»[24] впервые употребил Свен Гундлах в 1983 году, а концепцию разработали И. Кабаков[25], Э. Булатов, В. Комар и А. Меламид. Комар и Меламид первыми из круга неофициальных художников еще в 1970-е годы описали двух вымышленных живописцев: пейзажиста Николая Бучумова и абстракциониста Апеллеса Зяблова, якобы создававшего абстрактные композиции в XVIII в. Впервые картины вымышленных художников были выставлены на квартире математика Андрея Пашникова в 1973 году. Вместе с картинами там были представлены и различные документы: биографии, переписка, статья некоего гипотетического историка искусств. По словам В. Комара, «персонаж-художник у Кабакова появился после того, как в 1973-м он увидел созданных нами художников Зяблова и Бучумова»[26].
И. Кабаков в своих альбомах из серии Десять персонажей и В. Пивоваров в альбоме Микрогомус создают «маленького человека» и его внутренний мир в клаустрофобическом пространстве. По мнению Е. Бобринской, «эту традицию подхватывают позднее В. Захаров и В. Скерсис. В 1982 году в рамках своих концепций “фантомов” и “симуляции в культуре” они придумывают художников-персонажей – Катю Шницер, Лену Володину и ее брата Игоря Володина и создают от их имени ряд работ»[27]. Кабаков в своем проекте Альтернативная история искусства создает трех художественных героев, принадлежащих к разным школам и направлениям: Шарля Розенталя (1898–1933) – типичного авангардиста-модерниста начала ХХ в., писавшего картины в духе сезаннизма, кубизма и супрематизма, Илью Кабакова – двойника автора инсталляции (1933 года рождения) и Игоря Спивака, родившегося в 1970 году. Сюжеты картин выдуманных художников представляют советскую иконографию: Красная площадь, сталинский ампир, метро. Назвав это «своеобразным игровым мифотворчеством», Е. Бобринская считает, что «такая позиция освобождает художника от самовыражения». В. Пивоваров в тексте «Филимон или действительные записки из подполья» пишет якобы дневник своей бабушки, оказавшейся мышью, или прибегает к визуальному образу «монаха Рабиновича», появляющегося в серии рисунков Сутра страхов и сомнений, который пишет письмо художнику, где интерпретирует метафору лимона в культурно-историческом аспекте[28].
В 1981 году Пепперштейн создает один из своих первых альбомов под названием Каталог выставки произведений блюмаусских художников за 1970–1980 годы. Поместив выставку в выдуманный город Блямбург в вымышленной стране Блюмаус, художник выступает как составитель каталога и министр печати барон Пауль фон Пивовариус, и одновременно В. Пивоваров alias барон Феофан фон Витт является министром культуры и устроителем выставки. В каталоге напечатаны репродукции вымышленных художников разных периодов и направлений: абстракционизма, экзистенциального примитивизма, сюрреализма, концептуализма. Пепперштейн продолжает концептуалистскую традицию вымышленного художника-персонажа, т. е. «фигуры посредника между автором произведения и его зрителем»[29]. Он создает от чужого имени рисунки в альбомах Наблюдения, Ленин и Рисунки Сталина в период между 1982–1986 годами.
На индивидуальной выставке Мечты и музей (The Dream and Museum) в галерее «Цуг» в Швейцарии в 2002 году Пепперштейн представляет свои работы, написанные в стиле Сезанна, Герстля, Херцога, Кандинского, Климта, Матисса, Мунка, Шиле и др., добавляя к картинам свои визуальные и текстуальные комментарии. Этим он разрушает традиционную концепцию музея, в котором картины художников расположены по утвержденным принципам в зависимости от стиля, периода и школы. Пик своего мифотворчества Пепперштейн достигает в 2016 году, когда по приглашению своего друга, врача Германа Борисовича Зеленина, якобы работавшего в Институте имени Н. Федорова, соглашается поучаствовать в научном эксперименте, который подразумевает воскрешение из мертвых художника Пабло Пикассо. Ввиду своей медгерменевтическо-терапевтической деятельности Пепперштейн является одновременно и терапевтом, и художником, и вдохновителем Пабло, помогая воскресшему художнику вернуть творческое вдохновение и продолжить писать картины. Одной из причин, почему был выбран именно Павел Пепперштейн, было сходство их имен[30]. В конце Пикассо исчез из Института и оставил множество своих холстов Пепперштейну, который их выставил в 2017 году в галерее «Цуг» в Швейцарии, а потом и в Москве во «Vladey Space» на Винзаводе, под названием Воскрешение Пабло Пикассо в 3111 году. В сопутствующем выставке рассказе Пепперштейн объясняет, что 3111 год соответствует 2016 году по летоисчислению в мире мертвых, откуда и прибыл Пикассо.
Эта концептуалистская игра в исчезновение автора и в появление персонажа, за которым автор прячется, возможно, спровоцирована ощущением вторичности и марионеточности в отношении к официозу, Ленину, Сталину, Партии. Таким образом художники десакрализовали самих себя, уничтожали или мистифицировали свое авторство и создавали новых персонажей[31]. Из всего этого можно заключить, что мистификация и идентификация с Другим являются важным концептом творчества художника.
Наблюдение, инспектирование и экспериментирование
Наблюдение является одним из главных методов теории и практики московского концептуализма, наиболее часто применяемым группами «Коллективные действия» и Инспекция «Медицинская герменевтика». Как уже было сказано, они стояли на позиции «с краю», на периферии общества и культуры, и с этой позиции рассматривали происходящее в разных областях жизни: в культуре, искусстве и социуме. Важно упомянуть, что московские концептуальные художники были оторваны от международного контекста и наблюдали искусство отрывочно и со стороны. Художники-наблюдатели регистрировали события и явления извне, а в некоторых акциях и художественных проектах они включались в определенную ситуацию, анализируя события как бы «изнутри». Наблюдаемые события художники оценивали и переоценивали, комментировали, вводя термин «Высшая оценoчная категория» (что подразумевало спонтанное выставление оценки), который «демонстрирует отказ от оценки и одновременно осознание невозможности такого отказа»[32], что деконструирует и перечеркивает оценочный дискурс и превращает его в пустой центр[33]. Медгерменевты были знамениты своими хэпеннингами, в которых экспериментировали с человеческим сознанием, точнее, с синдромом коллективного бессознательного. Так, в одном из своих перформансов они достали пустую коробку из-под детского питания «Малютка», на которой изображена женщина с младенцем, взяли стетоскоп и предложили зрителям послушать сердце малыша, которое, по их словам, бьется; в другом случае, они нарочно подменили слайды, преподнося виды Риги как виды Стамбула. Они создавали симуляцию и подменяли подлинное фальшивкой, стараясь убедить публику в точности и важности их ложной интерпретации. Эта симуляция, подмена, якобы серьезное отношение к этим хэппенингам, спонтанность действия[34], импровизация, философствование, развитие «специального» языка вымышленных терминов, знакомых только узкому кругу художников, загадочность, терминофилия, графомания[35] и логорея их интерпретационных практик – все это является основными характеристиками их художественной деятельности.
Этими экспериментами, в которых прежде всего была важна игра, они шокировали и провоцировали традиционную публику. В центре внимания художников (в том числе имеются в виду группы «Коллективные действия» и Инспекция «Медицинская герменевтика») находилось восприятие, а не артефакт. Для них ключевое значение имел процесс и реакция публики, а не результат творчества. Говоря о художественной деятельности «Коллективных действий», Б. Гройс справедливо замечает, что «особенностью всех этих работ является их зависимость от эмоциональной преднастроенности зрителя, их чистый “лиризм”. Все их перформансы несколько эфемерны. Они не формируют закона, по которому их надо воспринимать и судить, и отдают себя на произвол зрительского восприятия»[36]. Их художественные эксперименты хоть и были провокацией, все равно были рассчитаны на элитарную галерейную публику.
Несмотря на то, что художественные провокации, эксперименты, хэппенинги, акции, действия, перформансы принадлежат искусству акционизма, сформировавшемуся как направление в 60-х годах XX века на Западе, они еще в первой половине XX века проявлялись в футуризме, дадаизме и сюрреализме. В России акционизм как направление формировался после распада СССР, но его элементы проявлялись еще в 70-х годах в московском и ленинградском неофициальном искусстве как реакция на советскую идеологию, закрытость общества, несвободу и невозможность художественного выражения. Мы уже упоминали, что группа «Коллективные действия» уходила от урбанистической среды городского пространства за город и там развивала свои художественные практики, касающиеся прежде всего экспериментов с человеческим восприятием действительности, времени и пространства, с его самосозерцанием в одиночестве или в кругу заранее определенных зрителей, а иногда и участников. Они принимали на себя роль «дистанционного наблюдателя», избегая активно участвовать в политической жизни. Этим акциям не был свойственен никакой радикализм или эпатаж, они отличались интроспективностью, минимализмом и контемплятивностью. Если они и формировались как протест против советской действительности, то этот протест являлся пассивным, превращаясь в какой-то метафизический резонанс в инспектировании советской действительности, в которой позиция наблюдателей и инспекторов подразумевала и критическую позицию. Этот концепт «наблюдения» хорошо визуализировал Д. А. Пригов в своих газетах, объектах и инсталляциях с изображением зловещего и вездесущего мирового глаза, что усиливало концепт присутствия Другого. Такой аполитичный подход к советской действительности все же содержал в себе исследование коллективного бессознательного и формирование художественных практик, для которых была характерна герметическая, изолированная среда, какой-то уклон от окружающей идеологии. Многие их акции рождались как ответ на абсурдную советскую действительность[37].
В конце 70-х – начале 80-х годов в ленинградском неофициальном искусстве вокруг российского художника, фотографа и кинорежиссера Евгения Юфита[38] формировалось художественное движение некрореализм. Некрореалисты начали свои художественные практики с увеселительных поездок за город, в пригороды, в цирк и в зоопарк, чтобы развлекаться и экспериментировать с животными. Их художественная деятельность началась спонтанно[39] и позже превратилась в радикальные художественные эксперименты, которые заложили основу московскому акционизму 90-х годов. Некрореалисты экспериментировали с физиологическим состоянием, с телом, с травмами (случайными или намеренными), с разложением мертвого тела, пытаясь найти грань между жизнью и смертью.
Некрореалисты и медгерменевты размывали границы между искусством и медициной, диагностируя симптомы болезни общества. Так, например, на третьей выставке «Клуба авангардистов» на Автозаводской под названием Перспективы концептуализма, художники представили «телесную» сторону московского концептуализма, психопатологический дискурс и шизофреническую синдроматику. По поводу этой выставки А. Монастырский пишет: «В маленьком зале обосновалось “клиническое” отделение, логично переходящее в демонстрационные пространства морга и кладбища. Е. Елагина представила инсталляцию “Детское” – по виду эта работа намекает то ли на детское отделение инфекционной больницы, то ли на абортарий. И. Макаревич выставил инсталляцию, представляющую собой настоящие санитарные брезентовые носилки, прислоненные к стенам, перемежающиеся пустыми грязно-зелеными поверхностями, в некоторых местах вздутыми и лопнувшими, как это бывает у трупов на первой стадии разложения»[40].
Некрореалисты были более сосредоточены на телах, живых и неживых (манекенах). Они создали героя-манекена Зураба, с которым делали эксперименты, травестируя его в живое тело. «Это шокировало, многие отшатывались в ужасе, нас называли больными, на нас дико смотрели»[41]. Поезда метро были идеальным местом для подобных экспериментов, поскольку «в них днем всегда много народа, но они друг друга не знают. И до следующей остановки им деться некуда»[42]. В своих проектах некрореалисты художественно анализировали «голую жизнь» как способ ухода из политического пространства советской системы, как противостояние государству с помощью травестирования насилия. Основное отличие художественных экспериментов[43] некрореалистов заключалось в том, что они были близки акциям, рассчитанным на провокацию обычных людей, – прохожих, пассажиров, полицейских, тогда как московские концептуалисты, в том числе и медгерменевты, выбирали галереи и публику, которая, приходя на их выставки, была готова к разным экспериментам. Именно такие неожиданные эксперименты с непредсказуемым художественным результатом преобразовывали стандартное экспозиционное пространство во что-то новое. Для обеих групп была важна провокация, которая нарушала нормы обыденного поведения с помощью разнородных речевых экспериментов, стратегии ухода от логического языка и приближения к абсурду и бессмыслице.
Если некрореалисты исследовали различные состояния на границе между жизнью и смертью, органические превращения тело-нетруп-труп, сосредоточиваясь на жизни человека, то объектом исследования медгерменевтов являлись пограничные зоны человеческой психики. Инструментом одних было тело, инструментом других – сознание. И даже когда медгерменевты пользовались «телесностью» в своих художественных практиках, они все равно «тело» подменяли «не-телом»: голова старика травестирована яблоком, головы инспекторов медгермевтики – шарами-колобками. Таким образом, танатология медгерменевтов переходила в зону Символического, в метафизическую Пустоту, а некрореалистов – в сферу реального и органического.
Интриги терминотворчества
В книге, посвященной концептуализму, Е. Бобринская пишет, что «одна из существенных особенностей московского концептуализма может быть определена как “литературный вариант” концептуального искусства, в отличие от “лингвистического” западного»[44]. Однако художественные практики Инспекции «МГ» и, частично, КД в некоторой степени все же приближаются к западной эстетике. Их работы отличаются минимализмом и неэстетичностью объектов, а теоретические художественные практики сводятся к манипуляциям с языком, свойственным западному концептуализму, – прежде всего группам «Art and Language» и «Fluxus», с которыми их связывает и особая шуточная и ироничная сторона языкового дискурса. Говоря о концептуализме, М. Тупицына считала, что, «концептуализм – это прежде всего антивизуальная идеология»[45]. Любой язык идеологичен, советский – особенно. Об этом говорили многие художники и теоретики московского концептуализма. Д. А. Пригов писал: «Я взял советский язык как наиболее тогда функционирующий, наиболее явный и доступный, который был представителем идеологии и выдавал себя за абсолютную истину, спущенную с небес. Человек был задавлен этим языком не снаружи, а внутри себя. Любая идеология, претендующая на тебя целиком, любой язык имеют тоталитарные амбиции захватить весь мир, покрыть его своими терминами и показать, что он абсолютная истина. Я хотел показать, что есть свобода. Язык – только язык, а не абсолютная истина, и, поняв это, мы получим свободу»[46].
Язык в СССР, особенно печатное слово, был безличным, анонимным, бюрократизированным, идеологизированным и принадлежал всем. Все говорили на языке идеологических штампов; лозунги, созданные в целях массовой пропаганды советской идеологии, воздействовали на бессознательное масс. Это нашло отражение и в московском концептуализме: «Неслучайно такое распространение у концептуалистов формы лозунгов, плакатов, объявлений, т. е. формы речений анонимных, лишенных своего субъекта»[47]. В поисках собственного авто-Номного языка члены НОМЫ (особенно медгерменевты) удалялись от общественного культурологического нарратива (штампов, лозунгов, бюрократических формулировок, языка СМИ) и создавали новую систему понятий во взаимной коммуникации, основанную на ироничной имитации структуры идеологического языка. Идеология, по словам В. Тупицына, рассматривалась как «замкнутый эйдос, который сам по себе структурирован настолько идеально, что он целиком гармоничен и являет тип “закрытого текста” вместе с иллюстрациями и комментариями»[48].
В результате московские художники создали уникальный совместный концептуальный проект – «Словарь терминов московской концептуальной школы» под редакцией А. Монастырского. В нем приняли участие почти все художники и писатели московского концептуального круга: А. Монастырский, И. Кабаков, Б. Гройс, В. Пивоваров, П. Пепперштейн, С. Ануфриев, Ю. Лейдерман, Д. А. Пригов, В. Сорокин, М. Рыклин, С. Хенсген, С. Гундлах, В. Тупицын, М. Тупицына, В. Захаров, И. Макаревич, И. Чуйков, И. Бакштейн, Ю. Альберт. Концептуалисты не только придумывали неологизмы, но часто заимствовали слова-термины из научных дисциплин – прежде всего из медицины, психологии, психоанализа, религиоведения. «Словарь терминов московской концептуальной школы» является своеобразной схемой знаков, в которой знак-термин через индивидуальную или коллективную символику узкого круга людей (концептуального круга художников) получает свое определение. Действие знака определяется его употреблением, т. е. частотностью использования, обозначая его прикрепление к речи и длительность существования. Таким образом, термины, составляющие «Словарь терминов московской концептуальной школы», напоминают конструирование иероглифов у обэриутов[49]. Эти термины объединяли визуальные и речевые знаки, идеологические, семиотико-эстетические дискурсы, отдельные синдромы, анализы художественного жеста и текста, системы и концепции. Суть «интриги терминотворчества» состояла в том, чтобы при помощи языковой трансформации образовалась новая терминологическая сеть с ограниченным временем использования терминов и ограниченным количеством пользователей.
В центре медгерменевтических исследований, в их «небесных лабораториях» находились такие понятия, как дискурс, тезисы, конспект, идеологический доклад. В теоретических произведениях медгерменевтов мы погружаемся в стихию текста. Текст уничтожался текстом о тексте, оставляя пустое место в сознании читателя. Кажется, что они критикуют постструктуралистский дискурс постструктуралистским методом языкообразования и его деконструкцией, одновременно фетишизируя советский идеологизированный язык. Под влиянием постструктурализма, особенно шизоанализа Делеза и Гваттари, они инспектируют идеологизацию и фетишизацию языка теми же средствами, применяя их на советский лад. Их тексты скучны, однообразны, основаны на бюрократической терминологии, переполнены терминами, знакомыми только медгерменевтам и близкому им кругу художников[50]. Они как бы отгораживаются от официальной идеологии идеологией собственной, придуманной, чтобы, с одной стороны, защититься, а с другой, – чтобы актуализировать свой отстраненный взгляд, и с некоторой насмешкой смотрят на все то, что происходит вокруг. В. Тупицын считал, что «идеология возникает сразу, как только ребенок, выходя из инфантильной (младенческой) фазы, начинает приобщаться к языку. Язык без идеологии невозможен, и это принцип, свойство языка. Доречевая фаза считается доидеологической, это тот самый “рай”, о котором идет речь. То есть мир без метафор и других тропов, коррумпирующих сознание… Создание искусственной, или игрушечной, идеологии – это попытка “впасть в детство”, вернуться на “стадию зеркала”»[51].
Таким образом, можно сделать вывод, что Сознание, а также и бессознательное, в советском обществе было структурировано как идеология. Присутствие этой советской идеологии в миропонимании некоторых концептуалистов порождало появление новой идеологии, индивидуальной, и приводило к образованию нового «искусственного» языка, на котором они общались.
Искусство вербализации: интерпретация и самоинтерпретация
Мы уже отметили выше, что беседы и дискуссии, теоретическая деятельность, конверсация и комментарии принадлежат традиции старших московских концептуалистов, собиравшихся на кухне, в подвалах или мастерских – синкретичных художественных пространствах. Эти сакральные пространства – единственные поприща свободного художественного высказывания. Концепт разговоров «на кухне» влек за собой комментарии, обсуждения, различные интерпретации, и такой подход к искусству повлиял на развитие теоретического дискурса Инспекторов медгерменевтики. Инспекция «МГ», наряду с инсталляциями и объектами, развивает до предела «искусство вербализации», т. е. искусство комментирования, аналитики и самоинтерпретации. В концептуальной и в постмодернистской практиках искусство не может существовать без комментария. Из таких разговоров и развился отдельный жанр – жанр беседы. И. Кабаков вспоминает: «Свойство наших бесед было в том, что предполагался заведомо дистанционный взгляд на явления, художественные и политические, на то, что нас всех окружало в этой жизни. Мы смотрели на эту жизнь из какой-то другой точки. И каждый принимал эту точку зрения, понимал, что и другой учитывает вот эту постороннюю точку зрения на то, что происходит. То есть, мы были жители какого-то замкнутого пространства, назовем прямо – тюрьмы, сидели на нарах, но у каждого сохранялось представление, что есть еще большой мир, где этот “нарный” мир может быть предметом описания. То есть это не были крики “Свободу!”, как у диссидентов. Нет, мы уже сидели на нарах, и не было никакой мысли, что нас с этих нар куда-то отпустят или мы сами что-то можем»[52].
Разговоры старших концептуалистов, свобода речи, проявляющаяся только в «дисциплинарных пространствах», и их рефлексивность в общении повлияли на формирование художественной деятельности Инспекции «Медицинская герменевтика». Такие дискурсивные игры, в которых велась умная и интересная беседа об искусстве, философии и жизни, П. Пепперштейн и И. Кабаков представили в своей инсталляции Игра в теннис (1996). Игра в теннис в этом случае являлась метафорой интеллектуального соперничества[53], остроумного диалога между концептуалистами, в котором вся коммуникативная деятельность строится как игра по определенным правилам и стратегиям[54]. Такую игру они повторили с Б. Гройсом, когда на черных досках мелом записали диалоги концептуалистов об искусстве. Эти философские занятия рождались как приятное времяпрепровождение и таким образом напоминали диалоги софистов и обэриутов. Одной из важных характеристик этих диалогов был игровой элемент философии, содержащий в себе шутовство, мимы, фарс[55].
Художники неслучайно выбрали именно игру в теннис. Философ В. Шестаков определяет теннис как игру, для которой характерна быстрая смена побед и поражений, а также и резкая смена контрастных эмоциональных состояний[56]: «Теннис – метафора идей о предопределении, свободе воли и назначении человека. Это символ человеческого существования, борьбы со своей судьбой и возрастом, борьбы за свое истинное предназначение. Великое, но бесцельное занятие. Действительно, практический утилитарный результат игры, на которую тратится так много усилий и энергии, равен нулю. С точки зрения здравого смысла игра в теннис алогична, иррациональна: огромные усилия тратятся на ничтожные цели. Очевидно, теннис нельзя понять с точки зрения утилитарной этики, он заключает в себе иной, более высокий смысл. Это аллегория человеческого предназначения»[57].
Беседой концептуалисты не стремились достичь какой-то определенной цели, для них был важен процесс интеллектуальной игры, смена вопросов и загадок, обсуждение той или иной проблемы, касающейся искусства и жизни, и разнообразие интерпретаций. Неслучайно одной из главных характеристик как художников, так и их практик была интровертность. Об этом пишет Кабаков: «В целом весь концептуализм построен на интровертах. Психический тип концептуализма – это, конечно, интроверт. Таков Монастырский, таков Пепперштейн. В данном случае мы имеем дело с восприятием мира интровертным способом, не при помощи изучения или узнавания, как в школе, а при помощи самопостижения, которое связано в огромной степени с интуицией, с бесконечным доверием и в области знания, и в области общения, и в области продуцирования. Он построен на интуитивном продуцировании, а не на манипулятивном»[58].
Таким образом, концепции московских художников во многом опираются на философию А. Бергсона[59], суть которой заключается в том, что иррациональная интуиция преобладает над интеллектом. Другая важная составляющая бергсоновской философии, применяемая в концептуалистской поэтике, касается временнόй длительности, т. е. неотменяемости самого темпорального процесса, в котором всегда рождается нечто новое. Такое осмысление изменчивой реальности приводило к образованию интерпретативной деятельности художников. Бесконечное число интерпретаций[60] Б. Гройс считает особенностью московских концептуалистов, и этот прием связывает с их романтической природой: «Иначе говоря, для меня тогда под романтическим имелось в виду что-то очень определенное – это не был романтический склад человеческой натуры, а переход от системы с конечным числом возможностей выбора к системе с бесконечным числом возможностей выбора. А это открытие в бесконечность, эта бесконечная перспектива мечтательности – это и есть то, что мы называем романтизмом»[61].
Все это указывает на то, что в искусстве московского концептуализма, в теории медгерменевтов и в литературных произведениях Пепперштейна существует смысловая множественность и бесконечное количество интерпретации, и ни одна отдельно взятая не может претендовать на истинность. Об этом писал и Делез, анализируя книгу Фуко «Археология знания»: «…главное достижение “Археологии знания” состоит в открытии и размежевании новых сфер, где и литературная форма, и научная теорема, и повседневная фраза, и шизофреническая бессмыслица, и многое другое являются в равной мере высказываниями, хотя и несравнимыми, несводимыми друг к другу и не обладающими дискурсивной эквивалентностью… И наука и поэзия в равной мере являются знанием»[62].
Такой подход, с одной стороны, представляет одну из важных характеристик постмодернизма, но, с другой, такое стирание границ между философией, искусством и литературой приводит к трансгрессивности.
Инспекция «Медицинская герменевтика» распалась в 2001 году, и художники продолжили свою самостоятельную деятельность: П. Пепперштейн регулярно выставляет свои нацсупрематическо-футурологические работы, публикует утопическо-психоделические рассказы и повести, снимает фильмы; С. Ануфриев работает в духе паттернизма, возвращаясь к визуальным первоэлементам и нарративу в живописи; Ю. Лейдерман продолжает писать рассказы и в каком-то смысле «перечеркивает» историю концептуализма и официально «прощается» с ним[63]: «Так или иначе, во имя всего “самого светлого и настоящего” мы бесконечно обречены перечеркивать событие им же самим. Перечеркивать историю, чтобы она оставалась Историей, а не превращалась в предательство или товар. Как я, скажем, перечеркиваю Илью Кабакова, чтобы он оставался для меня великим художником, а не конформистом и путинским лауреатом. Перечеркиваю “Коллективные Действия”, “Медгерменевтику”, Московский Концептуализм, чтобы они оставались новаторским искусством, а не архивным экспортным лейблом, наподобие русского балета. Перечеркиваю часть собственной биографии, чтобы она оставалась личным событием, а не послужным списком»[64].
Однако художественные произведения Инспекции «Медицинская герменевтика» выставляются и по сей день, а некоторые из их многочисленных бесед, записанных на 50 аудиокассет, наконец расшифрованы и опубликованы в двухтомнике «Пустотный канон» в 2014 году. Вадим Захаров, художник, издатель, коллекционер и архивист произведений московской концептуальной школы, на выставке Постскриптум после R.I.P. Видеодокументация выставок современных московских художников (1989–2014) представил свой видеоархив, включающий документацию 228 персональных и групповых выставок, состоявшихся в 1989–2014 годах в России и за рубежом, и этим доиграл свою долголетнюю роль «архивариуса московского концептуализма».
Понять сегодня, полвека спустя, что такое московский концептуализм, со всеми своими школами, концептами, группами и отдельными художниками, так же сложно, как и в разгар его становления. И нам кажется, это и есть главная уловка этого направления, которое своими стратегиями претендует именно на Неизвестность, Неуловимость, Непонятность, – другими словами, Московский концептуализм и есть тот самый Колобок, который ускользает от самого себя и каждой определенности.
Примечания
[1] Тупицын В. «Другое» искусства. М., 1997. С. 8.
[2] Более подробно о неофициальном и подпольном искусствах, как и о теме страха, см. в: Бобринская Е. Чужие? Неофициальное искусство: мифы, стратегии, концепции. М., 2013.
[3] Кабаков И. 60–70-е… Записки о неофициальной жизни в Москве. М., 2008. С. 11.
[4] Там же. С. 13.
[5] Там же.
[6] Там же. С. 124.
[7] Пепперштейн это называет «ритуалом домашнего просмотра альбомов»: «При этих просмотрах зрители (несколько человек, как правило, не более пяти-шести) располагались на стульях перед пюпитром, на котором устанавливался альбом. Автор во время показа стоял за пюпитром и неторопливо переворачивал листы с текстами и изображениями. Руки художника становились руками священнослужителя, а сами Кабаков и Пивоваров сделались тайными диснеями, демонстрирующими избранным зрителям таинственные медленные мультфильмы о странствиях душ». – Пепперштейн П. Вступительный текст в каталоге «Виктор Пивоваров, Книга I». Artguide editions. Музей МАГМА, 2014. С. 13.
[8] Одна из важных характеристик московской концептуальной школы: паузы в стихах Вс. Некрасова и Г. Айги, «пустые места» в акциях А. Монастырского, паузы при чтении стихов на карточках Л. Рубинштейна, пустотный канон медгерменевтов, пустые части холстов у И. Кабакова и др.
[9] Бобринская Е. Концептуализм. М., 1994. С. 10.
[10] В этом знаменитом цикле Кабаков создает историю десяти персонажей, живущих в советском гротескно-абсурдном пространстве, историю «маленьких» обезличенных людей, которые скрываются в своих щелях, и чья жизнь все время находится на грани исчезновения. Перечислим эти 10 персонажей: «Вшкафусидящий Примаков», «Шутник Горохов», «Щедрый Бармин», «Мучительный Суриков», «Анна Петровна видит сон», «Полетевший Комаров», «Математический Горский», «Украшатель Малыгин», «Отпущенный Гаврилов», «Вокноглядящий Архипов». Эти типичные персонажи советской действительности и московских коммуналок уходят корнями в творчество обэриутов и Достоевского.
[11] Картина В. Пивоварова. Как изобразить жизнь души? (1975).
[12] Пивоваров В. Книга I. Artguideeditions, Музей МАГМА, 2014. С. 78.
[13] Это наиболее ярко показано в альбоме В. Пивоварова Отшельники (2003).
[14] Пепперштейн П. Вступительный текст в каталоге «Виктор Пивоваров, Книга I».
[15] Рыклин М. Словарь терминов московской концептуальной школы. Сост. А. Монастырский. М., 1999. С. 47.
[16] Рыклин М. Террорологики. М.; Тарту, 1992. С. 11–70, 185–221.
[17] Бакштейн И., Кабаков И., Монастырский А. Триалог о комнатах / Сборники МАНИ. Вологда, 2010. C. 248.
[18] «Концептуалисты подвергали сомнению идею авторства как самовыражения и пластические ценности (живописная пластика есть свидетельство личного присутствия), предпочитая работать с общими категориями сознания, с массовыми стереотипами и идеологическими клише, и в конечном счете стремясь к исследованию и критической проверке самих границ искусства».
Ельшевская Г. «А – Я»: Опыт второго чтения / «А – Я»: Журнал неофициального русского искусства 1979–1986. М., 2004. С. IV.
[19] Гройс Б. Московский романтический концептуализм / «А – Я»: Журнал Неофициального русского искусства 1979–1986.
[20] Там же.
[21] Хотя перевод слова manas как ум является самым распространенным, важно иметь в виду, что «санскритский термин обозначает не активную познавательную способность (как “ум” в европейской традиции), а бессознательный инструмент, деятельность которого направляется сознательной душой». Новая философская энциклопедия: В 4 т. М., 2001 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_philosophy (дата обращения: 07.04.2025). Именно это второе значение имеем в виду, когда речь идет о художественных практиках и философских концепциях Андрея Монастырского.
[22] А. Монастырский в диалоге с В. Захаровым и Ю. Лейдерманом: О терминологии московского концептуализма / ХЖ. 2008. № 70 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://xz.gif.ru/numbers/70/on-terms (дата обращения: 07.04.2025).
[23] Нацсупрематизм – сокращение от национал-супрематизм. Этот неологизм, придуманный П. Пепперштейном, представляет, по его мнению, новый художественный стиль в русском искусстве.
[24] Подробнее об этом см.: Кабаков И. Персонажный автор / Журнал «А – Я». 1985.
[25] И. Кабаков под этим понятием подразумевал «результат процесса, в котором автор (он же креатор, “создатель”) создает не художественные объекты – картины, скульптуры и т. д., а создает главное и важнейшее свое произведение – “художника-персонажа”, который уже, в свою очередь, создает, “творит” соответствующие художественные изделия: картины, скульптуры и т. д.». – Кабаков И. О художнике-персонаже / Зеркало. 2003. № 21–22.
[26] Интервью с В. Комаром / Московский концептуализм. Начало. Ред.-сост. Ю. Альберт. М., 2014. С. 85.
[27] Бобринская Е. Чужие? Неофициальное искусство: Мифы, стратегии, концепции. М., 2013. С. 188.
[28] Более подробно об этом можно прочитать в неформальной беседе В. Пивоварова и А. Плуцера-Сарно «В поисках трансцендентного» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://plucer.livejournal.com/77225.html (дата обращения: 07.04.2025).
[29] Словарь терминов московской концептуальной школы. Сост. А. Монастырский. М., 1999. С. 92.
[30] И. Пивоварова в своем автобиографическом романе «Круглое окно» пишет: «в честь Клее да Пикассо нарекли Пашею». – Пивоварова И. Круглое окно. М., 1997. С. 51.
[31] Хорошим примером является концептуалистская поэзия Дмитрия Александровича Пригова.
[32] Словарь терминов московской концептуальной школы. С. 32.
[33] В начале 70-х годов И. Кабаков начал создавать картины и альбомы с пустым белым центром, в которых изображение помещалось по краям. Социальный мотив и мимезис такого рода изображения в демонстрационном поле Кабакова как поле личного результативного контекста понятен и неоднократно отрефлектирован им самим: не вылезай в центр, задавят!
[34] М. Рыклин считает, что «время действия, расположение участников, соотношение речевых кусков и молчания складываются в их работах как бы сами собой. Они извлекают из случайности закономерность прямо на глазах удивленной публики, опираясь на интуицию и большой опыт аутичного письма. Если интуиция дает сбой, с неизбежностью возникает театрализация. Нечто подобное случилось во время акции Нарезание. Тогда А. Носик кричал всякий раз, когда Ю. Лейдерман начинал нарезать буханку хлеба с помощью хлеборезки, и это очень напоминало сцену из пьесы Ионеско». – Рыклин М. Террорологики. М.; Тарту, 1992. С. 109.
[35] Графоманию Ю. Лейдерман определил как «однородный фон текстовых связей и интерпретаций, лишенный всяких предметных опор и озабоченный лишь продуцированием самого себя в цепи бесконечных версификаций». – Словарь терминов московской концептуальной школы. С. 30.
[36] Гройс Б. Московский романтический концептуализм / «А – Я»: Журнал Неофициального русского искусства 1979–1986.
[37] Так, например, акции Комедия, Третий вариант и Место действия, во время которых выкапывались ямы за городом с целью семантизации пустого действия, являлись бессознательным художественным отражением земляных работ, которые велись днем и ночью на протяжении четырех лет возле театра «Космос». Дело в том, что никто не знал, почему и для чего все эти раскопки совершаются.
[38] Евгений Юфит (1961–2016) родился в Ленинграде. С начала 1980-х участвовал в выставках живописи и фотографии в СССР и за рубежом. В 1984 году организовал независимую киностудию «Мжалалафильм», объединившую радикальных художников, писателей и режиссеров. Короткометражный фильм «Санитары-оборотни» – манифест некрореализма. Стажировался в киношколе Александра Сокурова.
[39] «Эксперименты некрореалистов, как уже говорилось, не были лишь частью художественного произведения и не были лишь игрой “на публику” со сцены или с киноэкрана. Они были интегрированы в реальную жизнь каждого из членов группы и их случайных зрителей со вполне реальными последствиями для каждого из них». – Юрчак А. Некроутопия: политика голой жизни и вне-советский субъект / Археология русской смерти. 2016. № 3. С. 96.
[40] Монастырский A. Экспонемы концептуализма (психопатологические аспекты экспозиционной деятельности) / Место печати. 1996. № VIII. С. 161.
[41] Юрчак А. Некроутопия: политика голой жизни и вне-советский субъект. С. 48.
[42] Там же.
[43] «Владимир Кустов вспоминает: “В ранние годы наше сумасшедшее поведение невозможно было отделить от того, как мы вообще жили. Наша жизнь была пропитана этим отношением к окружающей реальности”. Поэтому термин “провокация”, который мы упоминали выше, не до конца раскрывает значение тех акций, которыми занималась группа. Гораздо лучше для этого описания подходит термин “эксперимент”. Это были именно эксперименты, которые ставились и над публикой, и над самими собой. Жизнь членов группы в большей или меньшей степени превратилась в постоянный эксперимент, в непрекращающееся исследование советского субъекта и границ, за которыми советская политическая субъектность кончалась». – Там же. С. 95.
[44] Бобринская Е. Концептуализм. С. 16.
[45] Интервью с М. Тупицыной / Московский концептуализм. Начало. С. 96.
[46] Гандлевский С., Пригов Д. А. Между именем и имиджем / Литературная газета. 1993. № 19.
[47] Бобринская Е. Концептуализм. С. 17.
[48] Тупицын В. «Другое» искусства. М., 1997. С. 41.
[49] Л. Липавский ввел термин для обозначения того, чего нельзя услышать ушами, увидеть глазами, понять умом – иероглиф: «Иероглиф двузначен, он имеет собственное и несобственное значение. Собственное значение иероглифа – его определение как материального явления – физического, биологического, физиологического, психофизиологического. Его несобственное значение не может быть определено точно и однозначно, его можно передать метафорически, поэтически, иногда соединением логически несовместимых понятий, т. е. антиномией, противоречием, бессмыслицей. Иероглиф можно определить как обращенную ко мне косвенную или непрямую речь нематериального, то есть духовного или сверхчувственного, через материальное или чувственное». – Друскин Я. Звезда бессмыслицы / «…Сборище друзей, оставленных судьбою»: Л. Липавский, А. Введенский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников. «Чинари» в текстах, документах и исследованиях. Т. 1. М., 2000. С. 324.
[50] Об этом писала и Н. Злыднева: «Вторая тенденция времен перестройки – установка на непонятность, фиксация на персональном, приватном, психологическом – также апеллирует к слову. Речь идет об экзальтированном сверхчеловеке как главном герое группы “Инспекция Медицинская герменевтика” (С. Ануфриев, Ю. Лейдер ман, П. Пепперштейн)». – Злыднева Н. Изображение и слово в риторике русской культуры XX века. М., 2008. С. 68.
[51] Тупицын В. «Другое» искусства. С. 42.
[52] Интервью с И. Кабаковым / Московский концептуализм. Начало. С. 68.
[53] Такое игровое состязание в остроумии характерно для греческой манеры вести беседу. Более подробно об этом в: Хейзинг Й. Человек играющий. Опыт определения игрового элемента культуры. СПб., 2011.
[54] Более подробно об этом в: Витгенштейн Л. Философские работы. М., 1994. С. 75–319.
[55] Пепперштейн пишет о «чрезвычайно важной для 90-х годов эстетике “ограниченного сознания”: тупости, идиотизма, причем тупости как некоего шика, как некоего варианта glamour. Тупость есть, в данном случае, не отказ от мышления, а способ мыслить с задержками, с разрывами, постоянно демонстрируя “честную” раздробленность памяти». – Пепперштейн П. Глядя на водопад. Бивис и Бат-Хед на MTV // Неприкосновенный запас. 2001. № 4 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nz/2001/4/pepper.html.
[56] Более подробно об этом в: Шестаков В. Философия и теннис. Теннис в истории европейской культуры; философский и психологический смысл тенниса / Вопросы философии. 2002. № 8. С. 42–51.
[57] Там же.
[58] Интервью с И. Кабаковым / Московский концептуализм. Начало. С. 75.
[59] Бергсон А. Избранное: Сознание и жизнь. М., 2010.
[60] «Можно фантазировать по поводу акции Монастырского Появление в течение часа, а можно – в течение бесконечного времени». – Интервью с Б. Гройсом / Московский концептуализм. Начало. С. 60.
[61] Там же.
[62] Делез Ж. Фуко. М., 1998. С. 44.
[63] Имеется в виду выставка Ю. Лейдермана Песня «Товарищ», состоявшаяся в киевской галерее «Vozdvizhenka Arts House» в ноябре, 2015 года.
[64] Лейдерман Ю. Песня «Товарищ» / НIГIЛIСТ: Продуктивна Руйнацiя [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.nihilist.li/2015/11/22/pesnya-tovarishh (дата обращения: 07.04.2025).
В заставке использована автолитография Ильи Кабакова «Шеренга», 1989 г. (по работе 1969 г.)
© Елена Кусовац, 2025
© НП «Русская культура», 2025