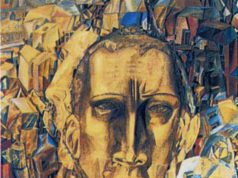Профессор космологии и квантовой физики Института космоса и гравитации Портсмутского Университета, научный сотрудник Института православных христианских исследований (Кембридж, Великобритания), преподаватель Библейско-богословского института Апостола Андрея (Москва).
В статье[1] обсуждаются философские трудности осуществления диалога между наукой и богословием. Богословие имеет дело с явлениями типа событий, к которым неприменимы критерии метафизики и онтологии. Таким образом, философия, осуществляющая посредничество между наукой и богословием, вынуждена включать в свой объем необъективируемые феномены, такие, как рождение человека, любовь другого, ощущение своей плоти как единосущной всей вселенной, переживание событий Библейской истории и др. Расширение философии возможно, если включить в состав ее данного содержание опыта богообщения, опосредованного эпистемологическими критериями расширенной «рациональности», исходящей из абсолютного приоритета загадочности человека, его сознания и жизни вообще. Такое расширение философии, предполагающее отказ от трансцендентальной установки выводит ее в принципиально эмпирическую сферу, отбрасывая в сторону исходный вопрос о том, что может быть исследовано, а что нет. Различие между научным опытом и опытом религиозным в философских терминах показывает, что это различие является базовой характеристикой человеческого состояния и его преодоление под видом «диалога» является экзистенциально несостоятельным предприятием. Обсуждения различия в опыте мира и опыте Бога необходимо для дальнейшей артикуляции смысла человеческого состояния, но не его изменения.
Введение
В многообразии дискуссий на тему взаимоотношения науки и религии, активно ведущихся на протяжении последних тридцати лет, есть одна примечательная черта: в них не наблюдается прогресса и их содержание остается практически неизменным. Из года в год на конференциях и в печати либо производится трактовка современных научных идей в русле исторически традиционного богословия, либо же богословские истины приспосабливаются к новым формам научной мысли. Главным остается то, что ученые производят исследования так, как будто бы диалог с богословием не существовал вообще, а богословы, интуитивно осознавая ограниченность своих возможностей в свете современной научно-технической секуляризации, отстаивают свои убеждения в сугубо историческом и лингвистическом ключе. Порой «диалог» между богословием и наукой напоминает все более тщательную демаркацию между двумя типами опыта, в которой научный компонент играет роль уточняющего критерия этой демаркации. Другими словами, «диалог» превращается в более подробное описание трудностей проведения такого «диалога» вообще. Язык, использующийся богословами и учеными, иногда кажется манифестирующе разным, апеллирующим неявно к неким предпосылкам, которые сами по себе не могут быть соединены или объединены. В чем причина этого? С нашей точки зрения искать ее нужно в философской непроясненности самой возможности того, что называют диалогом или посредничеством между наукой и богословием, наукой и религией. В данной статье мы эксплицируем различие между научным опытом и опытом религиозным в философских терминах, показывая то, что это различие является базовой характеристикой человеческого состояния и его преодоление под видом «диалога» является по сути экзистенциально несостоятельным предприятием. Обсуждения различия в опыте мира и опыте Бога необходимо для дальнейшей артикуляции смысла человеческого состояния, но не его изменения.
В самой постановке проблемы науки и религии, или диалога (посредничества) между наукой и богословием, неявно предполагается возможность соотнесения того, что является данными (givens) научного опыта и того, что подпадает под квалификацию как данные (givens) опыта Божественного. Как правило, такое предположение связано с естественным желанием осуществить иерархию чувственных и интеллектуальных представлений в едином сознании, не проводя тонких различий как в способах получения доступа к этим данным, так и в степени их рациональности, т. е. модусах их феноменализации. Обратим внимание, что подобная философская нечувствительность к разным модусам представления опыта может привести к реакции, когда сама возможность сравнения или посредничества между представлениями науки и богословия отвергается, как не имеющая смысла вообще, ибо сравниваются принципиально неоднородные «вещи», так что сравнение имеет лишь абстрактный характер, не имеющий экзистенциального смысла. Подобная реакция может быть как со стороны скептически настроенных по отношению к вере ученых, так и искренне верующих христиан. Однако как позиция возможности посредничества, так и отвергающая его, содержат скрытую философскую предпосылку, содержание которой не проговаривается, но которая предопределяет результат сравнения богословия и науки. Отрицающие законность опыта, апеллирующего к богословию, и возможность его соотнесения с наукой, неявно обосновывают свою позицию принятием определенной онтологической установки в отношении реальности, которая сама по себе остается непроясненной. В противоположность этому те, кто привлекают аргументы, основанные на религиозном опыте, оказываются неспособными выразить свою позицию с помощью философского языка, нейтрализующего возражения «атеистов». Однако как первый подход, отрицающий важность богословия для построения полной картины мира, так и второй подход, пренебрегающий необходимостью принятия во внимание рациональных аспектов положительной науки для укрепления богословского аргумента, являются слабыми именно с философской точки зрения, то есть с точки зрения рационального представления структуры целостного опыта жизни человека.
Для того, чтобы прояснить последний момент рассмотрим ситуацию, когда, ярыми поборниками веры задается вопрос такого типа: зачем нужно принимать во внимание представления физики, например, изучая или развивая богословие? Ведь богословие рассуждает о специфически человеческом пути спасения, мистическом опыте, евхаристии и Церкви, и не сводится к мифологии мира. В какой мере христианин должен быть осведомлен о физическом мире, чтобы реализовать путь к спасению или обожиться? Ответом на этот вопрос служит простое эмпирическое наблюдение о том, что поскольку сама возможность богословия (то есть переживания опыта Божественного (независимо от того, как интерпретируются данные этого опыта)), то есть реальность его существования и его представлений, определяется возможностью воплощенных носителей этого богословия (т. е. человеческих личностей), то для того, чтобы богословствовать, нужны необходимые физические и биологические условия существования этих личностей, которые, как нетрудно понять, укоренены в физических и космических условиях. Космология и земная физика (вкупе с биологией) эксплицируют эти необходимые условия. Отсюда следует вывод, что любое богословское положение, выражающее опыт Божественного в мире, и любое его представление в сознании неявно содержат в себе истину о самом мире, в котором этот опыт имеет место.
Если же теперь, от имени скептически настроенных ученых обратить предыдущий вопрос и спросить «Зачем богословие нужно для физики?», то реакцией на него будет следующее наблюдение. Физика в ее космическом измерении рассуждает о фактическом состоянии дел во вселенной, не проясняя смысла этой случайной фактичности и, тем самым, не проясняя смысла достаточных условий, лежащих в основании возможности познания и экспликации вселенной человеческими личностями. Физика оперирует в условиях своей фактической данности, не отдавая отчета о том, почему познание мира (от микро-частиц до космологических масштабов) является даром физически ограниченному человеку. Богословие, если и не объясняет, то по крайней мере интерпретирует этот момент, указывая на то, что только человек обладает рациональной способностью выходить за рамки физически конечного, то есть за пределы своего тела и непосредственного жизненного мира, и интегрировать в конечном сознании представление о мировом целом, бесконечном и непреходящем. Сознание и разум являются такими характеристиками человеческого состояния во вселенной (то есть такими характеристиками человеческих сущих), которые не могут быть объяснены посредством сведения их к физическому (онтологическому), оставаясь, тем самым, плохо понятым феноменом, прояснение и интерпретация которого возможны только с помощью апелляции к богословию сотворения человека в Божественном образе (что выводит аргумент за пределы объяснения изнутри мирового порядка, т. е. онтологии, присущей физическим объектам). Соответственно, любое космологическое представление о мире является неявно богословски нагруженным, ибо оно основано на Божественном даре веры в реальность благого творения Благого Бога и на даре возможности мысленной и словесной артикуляции вселенной как благодарственного приношения творцу.
Данная нами интерпретация вопроса о том, почему необходимо принимать во внимание онтологические ограничители для возможности существования богословия носит философский характер, основанный на присущей любой метафизике схеме обоснования с помощью принципа причинности (сознание является эпифеноменом физического), или достаточного основания (если эволюционные идеи не убеждают и приходится апеллировать к принципам, выходящим за рамки мировой причинности), а также принципа познаваемости, т. е. трансцендентальной установки на конечность познания (познание ограничено условиями телесности). Что же касается ответа на второй и противоположный ему вопрос о необходимости богословия, то в нем факт существования сознания и его рациональности связывается с представлением о Боге и, тем самым, не обладает той же философской ясностью, как это было в предыдущем случае, ибо обращение к Богу в построении аргумента предполагает модус веры, не являющейся очевидной в контексте используемой трансцендентальной установки на природу познания. Здесь введен в оборот богословский аргумент, апеллирующий к данным опыта, радикально отличающимся от того, что дано в физике или космологии. Эти данные соотносятся с фактом существования человека, понимаемым не только на физическом (природном) уровне, но как личностное (ипостасное) сознание. Здесь неявно происходит апелляция к типу опыта, не укорененному в природном (онтологическом), но относящемуся к другому модусу данного. Именно присутствующее различие в модусе данного, выявленное в нашем аргументе в пользу невозможности избежать космологических рассмотрений в богословии, с одной стороны, и неявным обращением к богословию богообщения (для обоснования возможности космологии), где откровением является сам факт жизни тварного человека, с другой стороны, указывает на несимметричность в отношении между метафизической интерпретацией возможности богословия как эмпирического и дискурсивного представления опыта жизни (т. е. силы научного аргумента), и собственно «богословским обоснованием» как богословия, так и возможности науки, исходя из непосредственных «данных» человеческого существования. Метафизическая нестабильность человеческого состояния (как пассивность или аффективность природой, временем, плотью и т. д.) и трансцендирование (как попытка вскрыть ее скрытый источник) оказываются феноменологическим указателем в область Слова и Духа, лежащих в основании жизни вообще. «Диалог» между наукой и богословием оказывается, тем самым, дискурсом прояснения и экспликации различия в способе явленности и получения данных в науке и богословии в одном и том же человеческом субъекте.
Как философски произвести различие между модусом данного в естественных науках и богословии и каковы пределы такого различия?
В первую очередь философским критерием различия в модусе данного в естественных науках и богословии является то, что любое научное исследование и любая теория предполагают принятую (явно или бессознательно) систему метафизики (metaphysica generalis), то есть онтологии (ontologia), так что такое исследование предполагает, что оно изучает предмет, который в первую очередь должен существовать, то есть быть сущим (ens). Это требование выдерживается для каждой специализированной метафизики, то есть как для научных дисциплин, так и для представления о Боге в философской теологии (theologia rationalis) (отличной от богословия как опыта богообщения, т. е. богословия откровения). Метафизика, с одной стороны, затрагивает вопрос о существовании Бога (и здесь разыгрывается драма возможных доказательств этого), а, с другой стороны, вопрос о сущности Бога. Обратим внимание, что требование метафизической определенности может быть также применено и к богословию, понимаемому как предание, историческое и филологическое. Например, метафизическим требованием может выступить требование существования событий библейской истории, так чтобы последние могли бы быть обоснованы и оправданы с точки зрения исторических наук, или же, чтобы соответствующие фрагменты текста получили бы свою интерпретацию и, тем самым, объективизацию с помощью правил филологических наук и лингвистики. Однако, с собственно богословской точки зрения, как философская теология, так и библейская экзегетика могут иметь смысл только в контексте непосредственного опыта богообщения, наделяющего последние содержанием и преодолевающим их онтическую ограниченность. Но можно ли подвести метафизическую базу под события богообщения и его богословие?
Здесь можно вспомнить о Хайдеггере, который в своей известной статье Phänomenologie und Theologie в 1928 году рассматривал теологию (включая и не-философское богословие) как «полностью автономную онтическую науку» в силу ее «позитивности», и, как следствие, ее зависимость от аналитики Dasein, являющейся фундаментальной онтологией. Это, согласно Хайдеггеру, подтверждает первичность онтологии по отношению как к теологии (богословию), так и всем частным наукам[2]. Обобщая, можно сказать, что различие между онтическими науками (к которым можно отнести большинство гуманитарных наук) и онтологическими науками (например, физикой, онтология которой базируется на опытно испытываемой жизни в условиях физического вещества и рубрик пространства-времени) предполагает различие в предлежащей онтологии. Однако если физика скромна в том, что оговаривается об ограниченности ее собственной онтологии как являенности несокрытого в экспериментах, связанных с функционированием телесного человека, то возникает вопрос о том, существует ли в наше время такая философская система, которая могла бы утверждать онтологию, положенную в основание универсальной науки о бытии, онтологию, которая могла бы подчинить себе богословие богообщения (сопричастия) и, как следствие, философскую теологию, экзегетику и т. д.? Можно перефразировать этот вопрос в парадоксальной форме: поскольку онтология (и ее первичность по отношению к онтическим наукам) обладает смыслом в метафизической системе, что может остаться от нее в эпоху «конца метафизики», когда тот же Хайдеггер прекратил использовать термин метафизика для того, чтобы «продумать бытие без сущего», т. е. «продумать бытие без оглядки на метафизику»[3], когда он отказался от бытия в угоду событию (Ereignis) («бытие исчезает в событии»[4], когда «бытие оказывается определенным родом события, а не событие – родом бытия»[5])[6]? Если ранее представление о событии было сокрыто под завесой метафизики, так что событие нуждалось в исходной онтологии, чтобы произойти (например в физике необходимо пространство-время, чтобы были возможны события, которые и составляют структуру последнего), то современное развитие феноменологии события выводит событие за пределы сущего. Событию невозможно приписать существования как уже постигнутому сущему. Событие можно охарактеризовать как завершение того, чья сущность не давала возможность его предвидеть как если бы можно было предвидеть непостижимое невозможное, исходя из постижимого возможного (т. е. метафизики с ее принципом причинности)[7]. Итак, если под вопрос ставится первичность онтологии Dasein, какая метафизическая альтернатива могла бы быть предложена для обоснования богословия? Краткий ответ таков: богословие откровения как события богообщения не следует более трактовать в контексте онтического статуса этих событий, как если бы они являлись лишь конкретными историческими событиями на фоне предсуществующего мира. Сами эти события осуществляют инаугурацию реальностей, утверждаемых богословием.
Итак, развитие философии, а также изменчивый характер фундаментальных физических структур в естествознании помещает человека и его мысль в «не-метафизическую» (пост-метафизическую) ситуацию. Может ли эта мысль использовать онтологический критерий для того, чтобы произвести различие между наукой и ее философским осмыслением с одной стороны, и с богословием богообщения с другой стороны? Здесь открываются новые возможности философского осмысления того, что метафизически невозможно. Суть события состоит в том, что оно предопределяет и переопределяет все возможности сущих в их бытии и в этом смысле ему можно придать определенный онтологический статус. Отсюда следует, что чем в большей степени феномен имеет место в модусе явленности как событие, тем в большей степени он ставит под сомнение метафизический модус бытия, ибо его возможность следует из его эффективной метафизически понятой невозможности. Богословие богообщения подтверждает это, ибо оно как раз и имеет дело с событиями, невозможность которых свидетельствует о том, как выражено в Библии, что «ничто не невозможно для Бога» (см. Быт. 18:14; Лк. 1:37). Примерами таких событий в первую очередь являются сотворение мира из ничего, Воплощение Слова Божиего во плоти, Воскресение и др. Эти события противоречат возможности их постижения (в метафизическом смысле) ограниченным сознанием человека, делая невозможным формулировку их идентичности (на основе принципа противоречия), то есть, другими словами, они представляют собой вызов онтологии и ее определению сущего.
Суть событий сотворения мира, Воплощения и Воскресения как раз и сводится к тому, что они не следуют онтологическим закономерностям, ибо позволяют то, чего нет в онтологическом смысле, то есть то, что не идентично самому себе и чье существование противоречит его сущности. Можно сказать по-другому: «сущность» этих событий противоречит самой себе, ибо в действительности Бог «призывает не-сущее как сущее» ( то есть как если бы оно было сущим) (Рим 4:17)[8]. Именно в этом последнем смысле такие события par excellence, как сотворение, Воплощение и Воскресение, можно сказать, приобретают «мета-онтологический» статус, в том смысле, что они противоречат законам, подразумеваемым онтологией, что касается их самих, а также в отношении всех затронутых этими событиями сущих. Мир вещей (вселенная) получает новую интерпретацию в соответствии с тем или кем, кто дарует бытие, ибо мир становится бытийствующим исходя из того учреждающего события, которое превосходит меру какого-либо возможного онтологического определения сущего. Сотворенный, сущий превыше всего является сам себе как божественный дар, а не как продукт законов, вскрываемых мышлением в рубриках онтологии. В свете такого обращения, когда сама онтология (как возможное) становится в производное отношение по отношению к событийности (как чистой невозможности), отношение между богословием богообщения и метафизикой претерпевает инверсию, так что последняя оказывается определяемой первым. Но этим нейтрализуется онтологический критерий в обосновании отношения между философией, философией науки и богословием, вводя «в игру» казалось бы другой критерий, касающийся различия между возможным и невозможным, то есть тем, что может и что не может быть предметом опыта.
Критерий, о котором идет речь, предполагает, что можно априори определить пределы рациональности, то есть исходить из ее конечности как условии возможности (или невозможности) феномена. Именно вследствие произведенного Кантом «коперниканского поворота» в сознании конечный разум осуществляет определение бесконечного, утверждая невозможность его познания на основании ограниченных законов мышления. Эта ограниченность определяет пределы возможного и невозможного и, тем самым, обладает качеством установления условий возможности сущих, понятых как феномены этого сознания. Конечность и ограниченность разума таким образом предполагает функционирование принципа трансцендентального априори. Если сознание не обладает трансцендентальным статусом, у него нет законного права априорно проводить различие между возможным и невозможным. Отсюда следует, что различие между научной философией и философией вообще, с одной стороны, и богословием (теологией), с другой стороны, на основе различия между возможным и невозможным, оказывается артикулируемым только если философия и основанная на ней методология науки функционируют как часть трансцендентального дискурса, то есть в предположении о трансцендентальном субъекте. Современная философия науки подтверждает этот факт, показывая, что формирование взглядов на структуру физической реальности напрямую связано с условиями доступа к этой реальности и возможности ее экспериментальной экспликации и математической выразимости[9]. Поскольку трансцендентализм входит в ткань классической феноменологии, феноменологический метод оказывается разумным выбором для того, чтобы вопрошать как о возможности науки, так и об основании богоcловия. В отличие от других возможных форм философствования феноменология остается наиболее эффективным методом проведения различия между философией (и методологией науки) и богословием, предполагая, конечно, что присущий ей трансцендентализм (основанный на предположении о том, что имеется субъективность, способная гарантировать трансцендентальную функцию) сам не подвергается исторической и эпистемологической коррекции. Итак, без апелляции либо к онтологии, либо к трансцендентальному статусу субъекта познания осуществить осмысленную демаркацию предмета науки и богословия оказывается проблематичным, ибо любая другая форма такой демаркации оказывается принципиально случайной и произвольной. Поскольку эра «конца метафизики» ставит под вопрос возможность универсальной метафизики для демаркации философии и богословия, теперь необходимо ответить на вопрос остается ли действенным трансцендентальный принцип, который может быть тоже положен в основу такой демаркации. Если последний оказывается невозможным, что имеет место не только в событиях богообщения, но проявляет себя в ряде феноменов, с которыми имеет дело современное естествознание, антропология и гуманитарные науки (имеется ввиду то, что подобные феномены невозможно подвести под некие априорные познавательные структуры) трансцендентальный аргумент оказывается бессильным в осуществлении различия между наукой, философией и богословием, так что философия вынуждена разрабатывать новые методы для усвоения ситуаций, когда человеческое познание и опыт сталкиваются с метафизически невозможным и бесконечным.
Возвращаясь к цели нашей дискуссии об установлении различия в модусе данного в естественных науках и богословии, а также отвечая попутно на вопрос для чего физика и космология нужны богословию, мы предложили метафизический и трансцендентальный аргумент, состоящий в том, что любые данные сознания и опыт Божественного зависят от предлежащей онтологии (физического вещества и биологических структур на нем основанных) и структур субъективности, адаптированных к окружающему миру. Отвечая на вопрос о необходимости физики и космологии для богословия, мы неявно осуществили демаркацию между наукой и богословием, указав, что, несмотря на явно онтические признаки богословского познания, как отличные от онтологически укорененных естественных наук, само онтическое нуждается в онтологическом (как телесной основе субъекта), так и специфически трансцендентальной структуре субъективности. Таким образом строгое разделение между наукой и богословием на основе оппозиции онтическое-онтологическое вряд ли достижимо, внося тем самым вклад в аргумент о том, что наивное полагание опыта Божественного вне материальных условий его возможности является верой без разума (чье экзистенциальное и сотериологическое значение остается непроясненным). Однако использование метафизического и трансцендентального аргумента в обосновании богословия сталкивается с трудностью, состоящей в том, что как богословие, так и его диалог с наукой не являются метафизической или трансцендентальной необходимостью, а обладают событийностью, присущей деятельности человека как разумного и обладающего свободой воли существа, чьи свойства не могут быть выведены на основе причинности из какой-либо онтологии. Здесь имеет место событийность, связанная с самоаффективностью жизни, в отношении интерпретации которой нужна новая философия, имеющая в первую очередь дело с феноменом самого человека. Именно поэтому ответ на вопрос «Для чего богословие нужно физике и космологии?» будет по преимуществу богословским в том смысле, что он будет апеллировать к первичности события жизни, понимаемой в первую очередь как фактичность сознания (не сводимого к физическому), т. е. обладать «мета-онтологическим» статусом, по сути благословляя и обосновывая возможность как философского, так и научного познания мира.
Как богословски произвести различие между модусом данного в естественных науках и богословии?
Чтобы обсудить эту тему, нам неизбежно придется вступить в область богословской антропологии, так как модель человека, разработанная Святыми Отцами, уже содержит в себе ответ на вопрос: благодаря чему возможно богословие? Эта модель отличается от современного понимания личности человека как существа, наделенного разумным мозгом, сознанием, волей и чувствами. Ранние Отцы рассматривали человека не только в свете дуализма между телом и дискурсивным разумом (dianoia, или интеллект в его современном понимании, разум). Они проводили тонкую различительную черту между dianoia и nous, где последний отвечает за способность к постижению истины, более высокую по сравнению с дискурсивным разумом. Современным языком его можно объяснить как духовное зрение или ум, не подчиняющийся логическим правилам; там где разум испытывает безмолвие, открывается путь для nous, духовного ума.
Dianoia (разум, рассудок) действует в человеке как способность к дискурсивному, понятийному, логическому мышлению. Другими словами, dianoia пользуется такими мыслительными операциями, как расчленение, анализ, измерение, а также производит математические действия. Функция dianoia – собирать информацию о предметах вне себя, будь то данные, почерпнутые из наблюдений, сделанных при помощи органов чувств, или полученные через духовное познание или откровение. Во всех этих случаях границы dianoia очерчены ее способностью делать выводы (посредством силлогической дедукции) и формулировать концепции (по индукции). Dianoia близка к предметному мышлению, которое по определению нацелено на достижение знания о предмете, мыслимом как внешний объект. Dianoia, таким образом, может охватить предметы, известные из опыта и постижимые с помощью чувств или разума; все это составляет рациональный метод познания, используемый в научном исследовании. Комментируя мысль преп. Максима Исповедника о том, что «все сущие… постигаемы умом и содержат в себе ясные начала ведения их» и что «Бог же называется “Недоступным для умосозерцания”, и из умосозерцаемых [существ] только бытие Его одного принимается на веру»[10], можно сделать вывод, что рациональное мышление (то есть dianoia) не годится для богословия, для непосредственного видения и опыта Бога. Знание, основанное на dianoia не подразумевает прямого восприятия или постижения внутренней сущности или принципов тварных существ, и еще менее – самой божественной истины». Постижение божественной истины возможно только при помощи nous, за рамками разума.
В противоположность dianoia, nous работает посредством прямого постижения истины. Он не имеет дела с причинами и следствиями и не выстраивает четкую логическую цепь; он, скорее, постигает истину через внутреннее видение, посредством которого – при условии, что человек чист – он познает Бога и внутренние сущности и начала тварных вещей через прямое постижение или духовное зрение. Согласно преп. Максиму Исповеднику: «Наш ум (nous) обладает такой силой постижения, посредством которой он воспринимает духовные реальности. Он обладает способностью к единению, превосходящей его природу и объединяющей его с тем, что находится за пределами его естественной сферы. Именно через это единение постигаются божественные реалии не посредством наших естественных способностей, но благодаря тому, что мы полностью выходим за свои пределы и полностью принадлежим Богу»[11]. Подобный «выход за пределы своего Я», осуществляемый при помощи nous’a, напоминает то, что многие верующие люди назовут верой. Вера это дар Божьей благодати, который не следует обсуждать или ставить на один уровень с другими человеческими способностями; «вера есть истинное ведение, обладающее недоказуемыми началами, поскольку она есть ипостась вещей [т. е. она открывает сущность вещей] превышающих ум и разум»[12] (ср. с Евр. 11:1). Вера, чьим органом является nous, позволяет превзойти границы обыденного познания, навязанного сознанием и разумом и относящегося к вещам века сего. Это даст возможность «узреть» не только духовные реальности, но также и предлежащие начала бытия всех вещей, что приводит и к Богу.
Итак, каким образом возможно богословие? Ответ на данном этапе рассуждений таков: богословие как опыт Бога возможно благодаря способности – nous, позволяющей в принципе иметь опыт Бога и приобщаться к нему. Все это показывает, что в nous’e есть нечто, что превосходит естественные стороны человеческой личности (телесно-душевный состав). Преп. Максим Исповедник идентифицирует nous с полнотой или целостностью человека, с образом его жизни, который он называет «внутренним человеком» (или, в современной терминологии – личностью)[13]. Осознание человеком его возможностей достичь полноты бытия заставляет nous действовать; и если человек преуспеет в этом – то есть, если ему удастся восстановить в себе всю полноту личности, их nous сможет богословствовать – созерцать тайну Бога до той степени, которая возможна для человеков[14].
В свете произведенного различия между dianoia и nous мы можем обсудить соотношение богословия и философии. Философия как модус мышления, соответствующий познавательной способности dianoia может иметь дело только с предметами тварного мира, природой. Однако богословы (в отличие от философов) знают о дефекте природного в человеке (связанного с грехопадением) и признают необходимость преображения этой природы, то есть совершенствования последней по образу сверхъестественного. То есть, в то время, как философия и наука интерпретируют сущие только в той мере, в какой они видят в них природное (естественное), то богословие вынуждено рассматривать то, что либо не обладает природой (естеством) вообще, либо превосходит пределы последней. Однако здесь возникает проблема каким образом природный человек может достичь божественной благодати в видении Бога, то есть обладать способностью выходить за рамки своих естественных способностей, то есть воспользоваться тем, что присутствет в нем латентно (как благодать), т. е. nous’ом. Проблема здесь в том, может ли природное образование вообще пожелать постигнуть нечто, что не достигается в рамках этой природы. Подобное не обязательно в отношении объектов природы, для которых возможно сущностное определение (предполагающее стабильность и идентичность, подобие чему-то природному). Здесь познание возможно изнутри природы без какой-либо апелляции с сверхъестественному (над-природному). Однако сам человек, будучи природным существом, испытывает трудность в сущностном познании самого себя. Это происходит в силу того, что, согласно богословию, будучи сотворенным в Божественном образе, для того, чтобы оставаться собой, человек должен быть неопределяемым как носитель в своей сущности и ипостаси образа неопределяемого Бога[15] (неопределяемость сущности Бога лишает человека сущности, ставя его во главу угла богословия)[16]. Именно это приводит человека к желанию снискания благодати как сверхъестественного Блага (то есть не содержащегося в природе «естественным» образом), для того, чтобы пытаться понять самого себя.
Таким образом, различие между природным (естественным) и над-природным (сверхъестественным), которое, ссылаясь на исторический опыт, можно было бы применить для демаркации науки, философии и богословия, терпит неудачу в случае человека, являющегося с самого начала синтезом естественности (т. е. природности) и сверхъестественности. В человеке невозможно отделить природную компоненту от присутствующего в нем сознания (несводимого к природному на основе законов причинности), то есть составляющую человека, находящуюся за пределами возможности объяснения им самим. При этом именно этот непознаваемый сам собой человек и является главным «предметом» рассмотрения богословия, в котором природное и сверхъестественное не отделены друг от друга. Применяя терминологию греческих Отцов, разделение на dianoia и nous возможно лишь в абстракции, не относящейся к реальному человеку. Отсюда следует, что разделение на философский и богословский модус познания не применимо к человеку.
Невозможность познания сущности человека показывает, что ответа на вопрос о том зачем космология нужна богословию (т. е. онтологического ответа) явно недостаточно, ибо природа человека не может быть фиксирована в рубриках естественно-научных и философских определений, то есть фактическая возможность космологии не может получить объяснения из нее самой (т. е. только из природного аспекта бытия человека). А поскольку сам факт существования человека, как превосходящего природность и обладающего ипостасью, не поддается объяснению с помощью космологических теорий, этот факт остается «наполовину» за пределами круга причинности, присущей онтологии мира, т. е. человек имеет дело с самим собой как насыщенным феноменом, являющимся составляющей опыта сопричастия тому, кто дарует жизнь. Таким образом, отвечая на обращенный вопрос, т. е. «зачем богословие нужно для космологии?», богословие нужно для того, чтобы «обосновать» саму возможность космологии как модуса человеческого существования. Но аргумент здесь не онтологический, а апеллирующий к человеку сотворенному, происходящему из учреждающего события, наделяющего человека будущим и возможностью познания. Соответственно и модус данного в явлении человека как центрального участника артикуляции отношений тварного мира с Богом оказывается принципиально другим по сравнению с наукой и философией: суть и структура внешней реальности (как данных в представлении сознания) находит свое «мета-онтологическое» обоснование в учреждающих событиях, таких как событии сотворения (рождения)-существования человека[17], феноменальность которых принципиально не подпадает под рубрики объектов, присущих наукам. Богословие нужно космологии для того, чтобы осознать, что взгляд на вселенную как физический объект имеет своим основанием событие жизни человека, не подпадающее под рубрики онтологического описания, но получающее свою интерпретацию из богословия как понимания о том, как человек был приведен к существованию произволением невидимого основания. В таком случае можно утверждать, что сама космология, будучи следствием этого события, получает обоснование из богословия богообщения, имеющего дело с учреждающими событиями как жизни, так и познания. Представление о мире строится в условиях присутствия божественного образа в нем по факту того, что он конституирован человеком. Но это представление остается ограниченным, а мир в целом непознаваемым в силу того, что сама сущность божественного образа в человеке оказывается сокрытой от него самого. В контексте богословски понимаемого грехопадения это означает, что, оставаясь центом мироздания, человеческая природа «простерта между ослепительной бездной благодати (т. е. служения умом Закону Божиему) (Рим. 7.25) и черной бездной погибели (т. е. служения плотью закону греха, т. е. физической неизбежности распада и смерти). При этом само познание мира как приспособление и обустройство своего места в творении, как использование ума как образа Божьего в постижении и приспособлении к физической природе падшего мира, является конститутивным элементом того, что понимается под грехопадением[18].
Итак, неопределяемость человека и его непознаваемость самим собой лежит в основе познания мира. Это означает, что форма космологии следует апофатическому императиву в антропологии, понимаемой богословски как антропология Божественного образа. Различие в статусе явленности в космологии и богословии сводится к пониманию ограниченности космологии и непознаваемости вселенной как сотворенного мира (а не как фрагмента физически наблюдаемой части космоса), ибо сфера феноменальности космологии (связанной с астрономическими объектами) не принимает во внимание событийность человека: познание мира происходит как если бы сознание существовало само по себе безотносительно к событиям прихода к бытию воплощенных личностей. Упущение из рассмотрения этого момента не позволяет осознать, что структура данности в космологии в конечном итоге определяется наличной фактичностью сознания, выступающего откровением для самого человека, богословски трактуемого как Откровение Бога человеку. В таком видении сам факт жизни, как впрочем и познания в философии и науке (как ее модусов) является следствием таким образом понимаемого Откровения, которое, как событийный модус познания, вбирает в себя все конкретные формы философского и частно-научного познания. При этом сами по себе данные Откровения недоступны в не-опосредованной форме. Их опосредование предполагало специальные эпистемологические условия обоснования феноменов богообщения как расширенная рациональность, реагирующая на них, которыми являлись вера и любовь. Вера в данном случае является эпистемологическим эквивалентом неопределяемости и непознаваемости человека самим собой, которые являются эмпирическими фактами и требуют принятия как Откровения Бога человеку. Любовь к Богу, положенная Августином в основание истинного богословия (и о которой речь будет идти ниже) предполагает богообщение как эмпирический источник любого рассуждения о Боге, его рационального осмысления. Философия как рациональный «ответ» на откровение должна приобретать формы, приспособленные к освоению тех феноменов из области откровения, которые заведомо не подпадают под схемы классической секулярной философии.
Структура богословия предполагала принципы принятия непосредственности богообщения, дарованность которых в опытном, эмпирическом, познании Бога не являлась непосредственно очевидной и верифицируемой, не доступной универсально всем, не являющейся априорной (в трансцендентальном смысле), но проистекающей из загадочного апостериори, при этом оставаясь действительной в своей фактической данности. Говоря о богообщении, речь идет в первую очередь о событиях взаимоотношения Бога и мира, творения мира, Воплощения Бога во плоти, воскресения и других личностных событиях святых и подвижников, данных в непредвиденном опыте, в смысле абсолютно невозможном с точки зрения их «наукообразного» объяснения в рамках метафизики, когда для этих событий невозможно определить предвосхищающий горизонт, а также невозможно заранее определить того трансцендентального субъекта, чьи познавательные способности заранее соответствовали бы возможности оформления событий богообщения в представление опыта, событий невоспроизводимых, лишенных сущностного определения и возможности объективного представления. Богообщение нетривиальным образом открывает возможность нового типа понимания феноменов, недоступных и метафизически невозможных, расширяя границы рациональности как таковой. Если рациональность в человеке понимать как естественную реакцию рассудка сформировать ответ на события богообщения, задачей богословия становится осознание того, как это новое данное в этих событиях укладывается в рамки рациональности. Именно это и является главным вызовом уже для философии со стороны богословия и его диалога с рационализмом научного познания: а именно, подвергнуть расширению саму себя (т. е. философию) так, чтобы принять и осознать смысл не-метафизической философичности богословского опыта и, как результат, осуществить философски четкую демаркацию научного опыта и опыта богообщения. Как рациональность справляется с усвоением опыта богообщения и как пути этого усвоения отличаются от модуса функциониарования рациональности в науках?
Для того, чтобы признать, что проблематичность богословия и его соотношения с наукой приводит к необходимости принятия опыта событий богообщения как новых, но действительных данных с необходимостью их эпистемологической квалификации, в первую очередь следует признать факт их существования, их действительность и неустранимость из события жизни вообще. Любая связь между опытом жизни, в которой закодированы события сотворения всего мира, в котором была возможна телесная форма существования, события воплощения Слова Божьего (для того, чтобы было возможно познание вселенной в целом через архетип Божественного образа), само моральное учение Христа (чтобы цивилизация не погрузилась в хаос и несуществование), воскресение Христа (дающее надежду человеку и определяющее цели познания), все эти события, влекущие новый тип данности познающему человеку, не обладают для натуралистически ориентированного ученого достоверностью. С его точки зрения в самом принятии таких событий, как обладающих эпистемологической новизной и стимулирующих развитие принципов рациональности, уже содержится элемент веры (т. е. субъективное, основанное на произвольном мнении суждение) и, тем самым, постановка проблемы имеет смысл только для верующих. Но в этом разграничении на веру и знание (episteme) содержится метафизический элемент, предполагающий различие между верой и знанием на онтологическом и трансцендентальном уровне. Но, как мы обсуждали выше, подобные критерии различения не работают в отношении самого человека как источника подобного различия, так что попытка отбрасывания элементов веры в отношении познания человека означает преднамеренное сведение на нет его непознаваемости, то есть искажения истины его существования. А отсюда следует, что первое данное событий богообщения, на которое требуется рациональная реакция есть данность человека самому себе, т. е. таинственность жизни как самоаффективности, как жизни от Жизни, лежащей в основе веры человека в эту Жизнь[19].
Богообщение, в отличие от мирской мудрости, осуществляется по инициативе того, кто за пределами метафизической и трансцендентальной обусловленности этой мудрости в человеке. И именно трансцендентный (событийный) характер богообщения позволяет осуществить четкое различие между тем, что раскрывается в откровении и что является предметом конструированного познания. Опираясь на фрагмент из послания к Евреям 4:12: «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого и проникает до разделения души и духа, сосудов и мозгов, и судит движения и мысли сердечные»[20], можно сделать вывод, что именно Слово Божие, как Логос, т. е. разум, способно различить то в познании мира, что принадлежит человеку, и то, что происходит от Бога, то есть что явлено в откровении. Различие между познанием человеком мира и мыслями о Боге само по себе опирается на предположение, что в богообщении специфически дается такое, что (в зависимости от того или иного мыслителя), принимается или нет перед лицом Божьего Слова, то есть разума (Логоса), входит в область мыслимого и опытного, или нет. Если данное в богообщении принимается, то тогда Богословие обосновывается тем, что то, что оказывается данным, включается в сферу феноменально данного, по праву такого же как всякое другое данное, но подпадающее под специальное эпистемологическое условие своего обоснования. Если же данные богообщения не включаются в сферу феноменов, они остаются частью того, что плохо артикулировано и метафизически невозможно.
Вера, будучи условием принятия данных богообщения, и как одна из главных богословских добродетелей, согласно (Кор. 1:13), неразделима с надеждой и любовью, в которых любовь является верховной и «остающейся до конца». А поэтому принятие данных в опыте богообщения предполагает, что то, что принимается и Тот, от Кого это принимается, то есть Тот, Кто дает то, что принимается, является не просто «объектом» ведения и созерцания, но, в первую очередь, «объектом» любви как любви к истине. В богообщении опыт любви качественно изменяет модальности познания, т. е. эпистемологические критерии принятия данных в опыте богообщения, как манифестации любви к истине. Согласно бл. Августину, «единственный путь к истине только через любовь»[21]. Другими словами, истина укоренена в любви как его эпистемологическом условии не в силу того, что истина не может быть полностью раскрыта без любви, а в силу того, что сама любовь является конечным и единственным основанием для возможности видения и постижения истины[22]. Паскаль выразил то же по-другому: «в отношении человеческих вещей говорят, что необходимо их знать, чтобы любить…святые же, напротив, говорят о вещах божественных, что их необходимо любить, чтобы знать, и что истина (vérité) открывается только через любовь (charité)»[23]. Однако, любовь не является чем-то просто соизмеримым с опытом текучей реальности, она требует преодоления отчаяния и безысходности человеческого существования, неоднократно артикулированного самим Паскалем в его «Мыслях», и обретением любви к Богу: «какая большая дистанция между знанием Бога и любовью к нему»[24]. Только эта любовь может дать доступ к «великому разуму», ибо любовь, данная в откровении Слова, то есть Логоса, проявляет себя как логос, то есть как разумность, которая делает возможным доступ к явлениям более близким и внутренним, тем, которые испытываются одухотворенной плотью человека и превосходят способность разумного осмысления. И здесь в первую очередь речь идет о познании человеческой личностью себя, как она дана сама себе, включая фактичность ее всеобъемлющего сознания, являющегося манифестацией жизни. Далее можно говорить о познании вселенной в целом как творении, как «со-одновременной» жизни и данной каждой личности в мгновенном интеллектуальном синтезе. Преодолеть не-сонастроенность с вселенной, свою бесприютность в ней и тревогу бессмысленности бытия можно только с помощью того «великого разума», который включает эти загадки в объем своего содержания, своих данных, действительность которых подтверждается тем, что они несут истину познания смысла бытия, гарантированной любовью к жизни как любовью к ее Творцу. «Великий разум» подразумевает ум Логоса-Христа, которым и через которого вселенная была сотворена и для кого, после воплощения во плоти, вся вселенная была умопостигаемым образом дана в ее полноте как мгновенье Божественной любви, для того, кто остается Господом миров (Откр. 1:16).
Само сотворение вселенной являет совершенную любовь, т. е. безусловное и одностороннее первенство любви по отношению к бытию: Бог сотворил вселенную из своей любви, и он не ожидает признания этого от твари, ибо Бог превыше того, что он сотворил. Познание вселенной как сотворенного являет собой скрытое познание божественной любви, а не только того, что было сотворено. Тем самым, созерцание и понимание вселенной как события, со-одновременного с событием жизни, смысла вселенной как даруемой в момент возникновения жизни, требует исповедания такой же безусловной любви по отношению к жизни, которую Бог исповедовал, создавая мир из ничего. Христианская любовь обосновывает возможность истинного познания, ибо тому, кто любит, то есть верит в Бога, возможно все, в том числе и постижение истины. Для Бога отсутствует возможность невозможного (Марк 10:27). Христианская любовь делает возможным «невозможное познание» человека себя самим, пусть даже в усеченном виде, как осознание смысла своей центральности в творении как Богом данной возможности познания себя через познание Бога. Чтобы знать достоверно следует в первую очередь самому быть познанным Богом, то есть любить Его (1 Кор. 8:3). «Познать» себя не своей собственной мыслью, а мыслью Его, того, кто (меня) мыслит, любя меня, и делает себя познаваемым лишь тому, кто любит его. Мысль о том, что истинное самопознание и познание возможно через обретение божественного ума в любви, означает что человеку приходится испытывать свою волю и познавать себя и мир не на основе природной сущности, а с помощью воли, воплощенной в действии христианской любви, как способности видеть в вещах Божественное присутствие вопреки их вопиющей эмпирической очевидности. Такое познание посредством вхождения в познаваемое в любви можно назвать сопричастием (communion). Оно позволяет через любовь получить доступ к непостижимой трансцендентности других существ и сущностей. В этом любовь как фундамент любого богословствования, т. е. как включение данных откровения событий богообщения в сферу феноменов и опыта, имеет полное право взять на себя ответственность за то, что провозглашает философия и познание, осуществить его критику и, в частности, как мы видели выше, выйти за рамки метафизических критериев в различении истины познания. «Любовь истины», или Логоса, как активного полюса события воплощения христологически восстанавливает определение философии как «любви к истине», выводя ее за пределы метафизической ограниченности и призывая ее к своему развитию и новому эпистемологическому освоению тех феноменов, которые возможны вопреки их кажущейся метафизической невозможности и которые выпадают за рамки трансцендентальных определений. Без любви человеческий разум оказывается ограниченным в интерпретации мира, преобразуя его в объекты манипулирования и имея дело лишь с их ущербной объектной феноменальностью.
Христианская любовь, надежда и вера осуществляют ту метаною в состоянии ума, в результате которой тварный мир предстает тем, как его созерцают «глаза» Логоса, через которого и которым все есть. Именно благодаря этой метаное сколько бы наука не убеждала нас в незначительности и преходящности нашего положения во вселенной, вплоть до ненависти к самой жизни на основании ее абсурдности и нашей онтологической бездомности, любовь к истине самой жизни (как вступление в экстраординарное и загадочное состояние быть живым) дает нам силы увидеть в человеке отблеск истины ее происхождения из Жизни, которая не видна на эмпирическом уровне и метафизически непредставима. Жизни, которая «была свет людям», который был в Слове, которое было в начале; и «свет во тьме светит, и тьма его не объяла» (Ин. 1:1-5). Для человека в его нынешнем состоянии, однако, «увидеть» этот свет невозможно не в силу того, что он «слабо» светит и не видим по недостатку своей явленности человеку, а наоборот, в силу того, что этот свет жизни дан человеку в абсолютном избытке, осуществляя «засветку», т. е. перенасыщение интуиции жизни до такого предела, что исток жизни, как и ее основания оказываются невидимым, ибо тьма неспособна объять жизнь в человеке так, чтобы последний осознал тайну своего бытия (т. е. если познать тайну своего бытия, то это будет тьма). Непознаваемость человека самим собой и проистекает из того, что он находится в присутствии такого переизбытка света, который блокирует возможность любого конечного понимания человека в категориях рассудка и с помощью разума. Христианская любовь способна привести человека к осознанию этого факта безусловной данности жизни как дара, происходящего от Жизни в самом Слове.
Итак, мы видим как специальные эпистемологические условия обоснования феноменов богообщения, первым и более непосредственным из которых является откровение самой жизни человека, являя собой расширенную рациональность, показывают, что в основании различия между богословием и наукой лежит амбивалентнось положения человека в творении, так что сама проблема соотнесения богословия и науки манифестирует неизбежность этой амбивалентности в сути человеческого состояния[25].
Самоаффективность жизни как предельный насыщенный феномен и конечное основание диалога между наукой и богословием
Логика рассуждений привела нас к выводу, что различение науки и богословия может быть квалифицировано как различная философская рефлексия над тем, что может быть представлено в феноменальности объектов, и явлениями типа событий, феноменальность которых превосходит границы метафизических определений, основанных на субстанциальности, причинности, предсказуемости, на оппозиции между возможным и невозможным (к этому относится в первую очередь представление о самом человеке). Если бы такое различие феноменальности было абсолютным, то, кажется, никакой диалог между наукой и богословием не был бы возможным. Это остается правдой в отношении сингулярных событий богообщения (такие, как воплощение Христа, его воскресение и вознесение, ипостасное сошествие Святого Духа на апостолов и др.). Несмотря на их бесконечную историческую и филологическую герменевтику, они остаются принципиально несводимыми к какой-либо мировой причинности (т. е. ускользают от ограничений метафизического описания). Однако для того, чтобы эти события были артикулированы в рациональном мышлении как ответе на их трансцендентный «призыв», нужен человек как восприемник этих событий. Говоря более обще, нужна жизнь, которая «есть свет людям». Но эта жизнь, несмотря на ее происхождение от Слова, для самого человека выступает в двойном представлении – с одной стороны, как жизнь в теле в рубриках пространства и времени, когда человек как объект позиционируется в терминах составляющих вселенной, а с другой стороны, как невыразимая тайна существования вообще, в которой вся вселенная суммируется в событии жизни. Классическая философия детектировала эту амбивалентность в положении человека множественными способами и в современном выражении она получила название парадокса человеческой субъективности. Оставляя в стороне многочисленные формулировки этого парадокса и его формальное содержание[26], мы хотим обратить внимание на то, что он являет собой пример двойной интерпретации одного и того же феномена человека: с одной стороны, когда человек предстает в феноменальности объектов как один физический предмет из многих во вселенной; с другой стороны, он предстает как артикулирующее сознание, в котором вся вселенная в совокупности пространства и времени сводится в едином мгновенном синтезе к событию жизни этого сознания, т. е. когда и человек, и вселенная, как его интенциональный коррелят, выступают в феноменальности событий. Другими словами, феноменальность человека получает различный статус в зависимости от интерпретации, т. е. от герменевтики, показывая, что в самом человеке нет феноменологической пропасти между тем, как он предстает в своем сознании в первом и втором случае. Можно говорить о вариации модуса феноменальности как следствие герменевтической вариации. Историко-философский указатель о такой связи между герменевтикой и феноменальностью можно найти в «Критике практического разума», где Кант рассуждает о том, как, в случае человека, примирить кажущееся противоречие между его внутренней свободой и механизмом природы, которому человек подчинен в силу своей воплощенной телесности. Он пишет: «…естественная необходимость, несовместимая со свободой субъекта, присуща лишь определениям той вещи, которая подчинена условиям времени, стало быть лишь определениям действующего субъекта как явления… Но тот же субъект, который, с другой стороны, сознает себя также как вещь самое по себе, рассматривает… себя самого как существо, определяемое только законом, который оно дает самому себе разумом; … весь последовательный ряд его существования как принадлежащего к чувственно воспринимаемому миру существа следует рассматривать в сознании его умопостигаемого существования только как следствие…причинности его как ноумена»[27]. Другими словами, причинность и другие категории с необходимостью определяют только естественный механизм, лежащий в основании поступков субъекта как феноменов, но не применимы к ним как вещам в себе. Моральная свобода и естественная необходимость сочетаются в одном и том же «объекте», т. е. человеке, с помощью вариации модусов феноменальности (т. е. способа явленности), ставшей возможной вследствие вариации в интерпретации (герменевтике) одного и того же «объекта» — человека — как феномена и ноумена.
Вхождение герменевтики в критерий различия модусов феноменальности, например между феноменальностью объектов (в науке) и феноменальностью событий (в богословии), указывает на то, что в конечном итоге различие во «взгляде» на один и тот же феномен проистекает из человека, а именно из вариации его интуиции. Например, переход от взгляда на вселенную как физический пространственно-временной объект к ее созерцанию как события со-одновременного с жизнью человека соответствует переходу от феномена вселенной с обедненной интуицией к насыщенному феномену вселенной с переизбытком интуиции[28]. Но тогда можно высказать предположение, что различие между интерпретацией феноменов на основе научной рациональности и расширенной рациональности богословия проистекает из самого человека, так что различие между научной картиной мира и его восприятием того же мира в контексте религиозного опыта связано с внутренне присущей пластичностью познавательных способностей человека, из которой указанное различие, как и возможные формы экспликации этого различия (будь то конфликт, либо согласие), проистекают. Парадокс человеческой субъективности являет собой пример неизбежного расщепления опыта жизни на его объективное представление (человек как часть вселенной) и его событийную интерпретацию (когда вся вселенная артикулируется в сознании человека), но при этом остается по-прежнему тайна этой дихотомии (т. е. амбивалентного представления человека о самом себе), которая, будучи неустранимой из любого познания, становится определяющим элементом человеческого состояния. Поскольку, как мы обсуждали выше, невозможно подвести метафизическую базу под феномен человека, то остается непознаваемым смыл указанной дихотомии в осознании своего места во вселенной, а вместе с этим оказывается неизбежным расщепление в научном и богословском восприятии реальности как различие модусов феноменальности. Сама проблема отношения между наукой и богословием оказывается характеристикой тайны человека, его непознаваемости самим собой. А отсюда следует, что надежда на установление такого диалога между наукой и богословием, который бы осуществил снятие проблемы как таковой (приводя науку и богословие к некоторому единству) тщетна и бессмысленна с философской точки зрения[29]. Устранение проблемы можно мыслить лишь эсхатологически в перспективе преодоления греховного состояния человека и мира в контексте богословски понимаемого обожения и преображения мира, о которых в рамках философии можно мыслить только как о регулятивных представлениях (в смысле интереса разума Канта: на что я смею надеяться?), позволяющих ориентироваться в экспликации проблемы науки и религии и конституировать ее содержание.
Итак, мы вынуждены констатировать, что главным движущим аспектом всех дискуссий на тему науки и богословия является непостижимая фактичность человека, фактичность его жизни. По сути как наука, так и богословие вкупе с философией подходят к своему предельному основанию в событиях жизни, проистекающих из жизни как таковой. Но поскольку, в соответствии с нашими прежними рассуждениями, мы не можем подвести онтологическое (метафизическое) основание под феномен жизни, жизнь не может рассматриваться на одном уровне с элементами остальной природной реальности, оставаясь за пределами феноменальности объектов и манифестируя себя в событии жизни как чистой возможности всех дальнейших феноменализаций. При этом сам мир, становится осознанным и тем самым феноменализируемым из перспективы жизни как события. Здесь фактичность жизни и человека, трактуемые богословски как произволения Слова и Духа в создании человека в Образе Святой Троицы (как часть богословия богообщения), ставит перед философией проблему развития герменевтики и феноменологии неявленного, т. е. феноменов, которые не показывают себя, но лежат в основании способности делать различие между тем, что живо (человек) и тем, что мертво (обратим внимание, что наука для этого не подходит: cогласно C. Булгакову «наука творит заведомое мироубийство и природоубийство, она изучает труп природы…»[30]). Такой философии предстоит освоить рационально опыт богообщения, как способность мысли и речи, исповедания свободы от рабства у природы и общества, безусловного следования любви как конечному принципу богообщения и основанного на нем бытия.
Невидимый и непоказанный феномен жизни как таковой с особым драматизмом эксплицируется в проблеме рождения человека, рассмотренной феноменологически. Отсылая читателя к источникам по этой теме[31], мы лишь хотим указать на то, что феноменологическая закрытость события рождения как скрытая загадка событий жизни вообще, невидимо присутствуя во всех дискуссиях между наукой и богословием, эксплицирует себя косвенно как в исторически и литературно повествуемых событиях христианской истории, таких как воплощение Слова Божьего в Иисусе Христе, так и в научном нарративе, повествующем о начале вселенной, или об учреждающем событии биологической эволюции. А поскольку, согласно современной научной точке зрения, весь физический мир произошел из сингулярного события в прошлом вселенной, события, фактичность которого не прояснена до конца самой наукой, то в конечном итоге наука архетипически апеллирует к той же интуиции «начала», которая является ведущей характеристикой человеческого состояния как непознаваемого самим человеком и представляющим исходную и завершающую загадку в проблеме отношения между наукой и богословием. Однако как и в феноменологии рождения, возникновение вселенной не является просто «рождением» мертвого физического мира из чего-то, что ему логически или темпорально предшествовало, а скорее является возникновением определенной являенности мира (его феноменальности) как результат возникновения жизни. И это являет собой начало богословия, понимаемого не как «домыслы человеческого ума-рассудка или результат критического исследования, а поведание о том бытии, в которое действием Святого Духа человек был введен»[32], а также как живое присутствие Бога, восстанавливающее человеческий субъект, «поддерживая его в личных отношениях с Богом и другими тварными существами»[33]. В богословской деятельности как модусе жизни «человеческий разум обнаруживает себя наделенным действительностью ему данного, не как немого и инертного объекта познания, но как Святого Духа, глаголящего Словом Божием и в этом Слове представляющим само Божие Бытие как творческий источник и объективное основание нашего познания Его»[34].
Если проблема происхождения жизни человека является ведущей в диалоге богословия и науки, и эта проблема является богословской, становится ясно, что отношение между наукой и богословием не может быть «симметричным», то есть позиционирование отношения как отношения «между» наукой и богословием, является недоразумением. Сама возможность науки как следствие фактичности жизни, является неявно богословской проблемой, ибо, если быть последовательным в установлении указанного «отношения», в первую очередь нужно задать вопрос о возможности научного описания мира и его представления в феноменальности объектов, а это в конечном итоге приводит к вопросу о «жизни подателю», т. е. к подлинному богословию как волеизлиянию Святого Духа. Богословие снова бросает вызов философии, инициируя в рациональном ответе на дарение жизни новое понимание феноменальности того, что не явлено в рубриках пространства и времени. Постановка вопроса о присутствии в дискурсе о науке и богословии пневматологического измерения для представителей науки должна показаться странной и неуместной. Если рассуждение о логической структуре мира по крайней мере способно хоть как-то затронуть Христологическую проблематику, ибо Логос присутствует в мире в его умопостигаемых законах и в единосущии между вселенной и телом воплощенного Христа, то Святой Дух никогда не присутствовал ипостасно в мире в рубриках пространства и времени (кроме события Пятидесятницы), несмотря на то, что Он незримо и неотъемлемо «присутствовал» в актуализации воплощения в физическом мире. А поэтому обнаружить «присутствие» Духа во вселенной как его действие над историей, оказывается непомерно трудной задачей и для самого богословия. Аппарат последнего и его язык нуждаются в философских методах рассуждения о феноменальности того, что не явлено, т. е. не показано, но что присутствует в основании констатации этой неявленности. По сути речь идет снова о ситуации, когда интуитивное содержание того, что не явлено, превышает разумную способность его конституции, то есть о насыщенном феномене, принципиально обладающим событийной феноменальностью. Как было выражено Т. Торрансом, мы встречаемся с Духом «всегда как Господом в неумолимой объективности Его божественного Бытия, сопротивляющегося нашим объективирующим модусам мысли и придавая Самого Себя нам в соответствии с модусом Его само-откровения в Слове»[35], т. е. наделяя нас исходящими от него Самого формами Его усвоения, когда истинное познание вещей становится их познанием не из перспективы нашей природы, а из отрефлектированной само-аффективности жизни как указателя за ее собственные пределы. Дух парадоксальным образом указывает на невозможность ухватить его присутствие в формах мысли и речи, осуществляя тем самым возможность осознания этой невозможности. И именно в этом мы оказываемся как бы под постоянным ослепляющем взором Духа Святого, на которого нельзя посмотреть. В то же время видение смысла тех реальностей, с которыми человек событийно сталкивается в опыте Божественного, достигается в действиях Духа над историей, отсылающим содержание наших форм мысли и речи в событиях богообщения за пределы их пространственно-временного контекста. Дух, таким образом является тем действием Бога по отношению к нам, в результате которого наши концепции и когнитивные формы оказываются открытыми по отношению к тому, что не явлено, но что лежит в основании нашей способности детектирования событий богообщения и рефлексии над ними.
Научная деятельность и артикуляция вселенной тоже содержат в своих результатах неявное присутствие «подателя жизни», а поэтому философская экспликация этих теорий в перспективе событийной феноменальности, т. е. как их возникновение в событиях жизни способна пролить свет на пневматологическое измерение науки как таковой, т. е. на пневматологическое измерения отношения науки к богословию богообщения.
Заключение
Неопосредованность богословия богообщения означает, что это богословие не может выступать в метафизической форме, то есть как таковое оно производит расширение философии как не-метафизической, то есть как завершение метафизики в том, к чему критерии метафизики и онтологии неприменимы. Таким образом, богословие вынуждено иметь дело с такой данностью, которую философия в эпоху «конца метафизики» с трудом пытается интегрировать в фабрику своего мышления. Философия вынуждена включать в свой объем необъективируемые феномены и вообще то, что не является сущим, то есть такие аспекты переживаний как рождение человека, любовь другого, ощущение своей плоти как единосущной всей вселенной, переживание событий и др. Другими словами, речь идет о так называемых насыщенных феноменах. Эти феномены, не подпадая под рамки метафизического описания, ускользают от научной интерпретации. Но если возникает необходимость соотнесения таких феноменов с содержанием научных идей, то по крайней мере нужно попытаться осмыслить их философски. И здесь богословие подает пример философии: ее расширение возможно, если в состав того, что она воспринимает как данное, включать данное в событиях богообщения, включающих многообразные насыщенные феномены, данное, но опосредованное эпистемологическими критериями расширенной «рациональности», исходящей из абсолютного приоритета человека, его сознания и жизни во всех вопросах, касающихся установления смысла реальности. Такое расширение философии (предполагающее отказ от трансцендентальной установки) выводит ее в принципиально эмпирическую сферу, отбрасывая в сторону исходный вопрос о том, что может быть исследовано, а что нет. Будучи принципиально эмпирическим, в силу априорной зависимости от трансцендентного, богословие предшествует философии в том смысле, что оно ставит для философии новые задачи и вопросы в условиях, когда метафизическая матрица мышления и трансцендентальная установка не применимы. В этом смысле можно говорить о рациональности богословия, но в более сложном и более действенном смысле, чем та, которая имеется в философии. То же можно сказать о богословии в контексте его диалога (посредничества) с частными научными дисциплинами, когда последние амбициозно претендуют на познание вселенной и человека как если бы они были онтологически укоренены в некоей первостихии мира. Здесь богословие осторожно указывает на то, что случайная фактичность мира человека, если и имеет какое-либо основание, так лишь в своем трансцендентном ином, чье «присутствие» и ощущается как невообразимая непознаваемость мира и самого человека, но не в смысле недостатка знаний или времени для его познания, а в смысле переизбытка присутствия трансцендентного в его отсутствии, делающим каждое экстраординарное и загадочное мгновение жизни человека «ослепляющим событием» присутствия света Жизни от Слова, Слова бывшего с Богом и бывшим Богом.
Библиография
Августин, Бл., О Троице. М.: Образ, 2005.
Булгаков, С. Н., Философия хозяйства. Соч. в 2 т. М.: Наука, 1993, т. 1.
Зеньковский, В. В., Основы Христианской философии. М.: Канон, 1996.
Кант, И., Критика практического разума, соч. т. 4. ч. 1., М.: Мысль, 1965.
Лосский, В., Боговидение, М.: АСТ, 2003.
Преп. Максим Исповедник, Главы о богословии. Cap. Theologicorum: Главы о богословии и о домостроительстве воплощения Сына Божия // Творения Преподобного Максима Исповедника. Книга 1. Богословские и аскетические трактаты / Пер. А. И. Сидорова. М.: Мартис, 1993.
Преп. Максим Исповедник, Cap. de Charitate: Главы о любви // Творения Преподобного Максима Исповедника. Книга 1. Богословские и аскетические трактаты / Пер. А. И. Сидорова. М.: Мартис, 1993.
Марион, Ж.-Л., Насыщенный феномен // С. А. Шолохова, А. В. Ямпольская (сост.), (Пост) Феноменология. Новая феноменология во Франции и за ее пределами. М.: Академический проект, 2014, с. 63–99.
Нестерук, А., Смысл вселенной, СПб.: Алетейя, 2017.
Нисский, Гр., св., Об устроении человека (De hominis opificio) / Пер. В. М. Лурье. СПб.: AXIOMA, 1995.
Паскаль, Б., О геометрическом уме и об искусстве убеждать // Паскаль и европейская культура / Г. Я. Стрельцова. М.: Республика, 1994.
Романо, К., Авантюра времени. Три эссе по феноменологии события / Пер. Р. А. Лошакова. М.: Рипол Классик, 2017.
Сахаров, С., Преподобный Силуан Афонский. М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2002.
Светлов, П., Вера и Разум (Библейско-апологетический очерк) // Вера и Разум. Киев: Пролог, 2004.
Франк, С. Л., Реальность и человек. СПб: РХГИ, 1997.
Хайдеггер, М., Бытие и время / Пер. В. В. Бибихина. СПб.: Наука, 2002.
Хайдеггер, М., Время и бытие // Время и бытие. Статьи и выступления / пер. В. В. Бибихина. М.: Республика, 1993.
Augustine, Contra Faustum, The Nicene and Post-Nicene Fathers, ed. P. Schaff and H. Wace, Ser. 1, vol. 4 (Grand Rapids, MI: W. B. Eerdman Publishing Company, 1996).
Bitbol, M., Kerszberg, P., Petitot, J. (eds.), Constituting Objectivity. Transcendental Perspectives on Modern Physics (Springer, 2009).
Carr, D., Paradox of Subjectivity (Oxford: Oxford University Press, 1999).
Heidegger, M., «Phenomenology and Theology», in Pathmarks, ed. William McNeill (Cambridge: Cambridge University Press, 1998).
Henry, M., C’est moi la vérité (Paris: Editions du Seul, 1996).
Marion, J.-L., Du sucroît. Etudes sur les phénomenes saturés (Paris: Presses Universitaires de France, 2001); Le phénomène érotique (Paris: Grasset, 2003).
Marion, J.-L., “The Event, the Phenomenon and the Revealed”, in Transcendence in Philosophy and Religion, ed. J. F. Faulconer, (Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press, 2003), pp. 87–105.
Marion, J.-L., “Mihi magna quaestio factus sum: The Priviledge of Unknowing”, The Journal of Religion 85, No. 1 (2005), pp. 1–24.
Marion, J.-L., Certitudes négatives (Paris: Bernard Grasset, 2010).
Maximus the Confessor, St., Various texts on Theology. The Philokalia: St. Nikodimos of the Holy Mountain and St. Makarios of Corinth. The Philokalia: The Complete Text, vol 2., ed. G. E. H. Palmer, P. Sherrard, and K. Ware, (London: Faber, 1986).
Pascal, B., Pensées. Louis Lafuma (tr.), (Paris: Éditions du Seul, 1962).
Romano, C., L’événement et le monde (Paris: Presses Universitaires de France, 1998).
Torrance, T. F., God and Rationality (Edinburgh: T&T Clark, 1997).
Примечания
[1] Данная статья написана по материалам доклада, представленного на конференции «Богословие, наука и Православное предание» в Санкт-Петербургском междисциплинарном центре по науке и богословию при Санкт-Петербургском государственном университете и Санкт-Петербургской православной духовной академии 31 мая 2017 г. Конференция была поддержана мини-грантом в рамках международного проекта Science & Orthodoxy around the World (Координатор: Institute of Historical Research, National Hellenic Research Foundation, Athens, Greece). Английская версия статьи: A. V. Nesteruk, Philosophical Foundations of the Dialogue between Science and Theology // Journal of Siberian Federal University, Humanities & Social Sciences 11, no. 2, 2018, pp. 276–298.
[2] M. Heidegger, «Phenomenology and Theology», in Pathmarks, ed. William McNeill (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), p. 50. Ср. с тесктом в Sein und Zeit, §7, в котором Хайдеггер помещает теологию в один ряд с другими дисциплинами, имеющими дело с феноменами, анализ которых есть прерогатива феноменологии (М. Хайдеггер, Бытие и время, СПб.: Наука, 2002, с. 34).
[3] М. Хайдеггер, Время и бытие//Время и бытие. Статьи и выступления, М.: Республика, 1993, с. 406.
[4] Там же, с. 404.
[5] Там же, с. 404.
[6] О нетривиальном и неоднозначном смысле термина Ereignis у позднего Хайдеггера, отличающим проблематику последнего от современной событийной герменевтики см. К. Романо, Авантюра времени. Три эссе по феноменологии события. М.: Рипол Классик, 2017, с. 52–62.
[7] См. подробно о феноменологии события C. Romano, L’événement et le monde (Paris: Presses Universitaires de France, 1998). О подробном различении между представлением явлений в феноменальности объектов и феноменальности событий см. J.-L. Marion, Certitudes négatives (Paris: Bernard Grasset, 2010), pp. 243–308.
[8] Мы приводим перевод строки из Послания к Римлянам по изданию «Нового завета» под редакцией епископа Кассиана (Безобразова), Российское библейское общество, 2001, с. 309.
[9] См. в этой связи M. Bitbol, P. Kerszberg, J. Petitot (eds.), Constituting Objectivity. Transcendental Perspectives on Modern Physics (Springer, 2009).
[10] См. преп. Максим Исповедник, Главы о богословии. 1.8. Творения, т. 1, с. 216.
[11] Преп. Максим Исповедник, Various texts on Theology, 5. 68, p. 276.
[12] Преп. Максим Исповедник, «Главы богословии…», 1.9., Творения, т. 1, с. 216.
[13] Преп. Максим Исповедник, «Главы о любви», 4. 50. Творения, т. 1, с 139. См. при этом критическое замечание В. Лосского по поводу того, что у других авторов, например у св. Григория Нисского, «нус» человека нельзя понимать как ипостасное начало, сообщающее человеку личностное бытие (В. Лосский, По образу и подобию // Боговидение, М.: АСТ, 2003, с. 654).
[14] Преп. Максим Исповедник, «Главы богословии…», 1.9., Творения, т. 1, с. 216.
[15] То, что человеческая личность непознаваема следует из признания в ней Божественного образа, то есть образа Того, Кто не познаваем. Классическим святоотеческим примером может служить отрывок из св. Григория Нисского: «…Поскольку природа нашего ума ускользает от познания, и это по образу Создавшего, то значит, она точное подобие превосходящему, своей собственно неведомостью являя отличительную черту неприступной природы» (Об устроении человека (De hominis opificio) / Пер. В. М. Лурье. СПб.: AXIOMA, 1995. С. 31). См. также статью J.-l. Marion, “Mihi magna quaestio factus sum: The Priviledge of Unknowing”, The Journal of Religion 85, No. 1 (2005), pp. 1–24, а также Marion, Certitudes négatives, pp. 21–86.
[16] Как пишет В. Лосский: «Личность есть несводимость человека к природе. Именно несводимость, а не “нечто несводимое” или “нечто такое, что заставляет человека быть к своей природе несводимым”, потому что не может быть здесь речи о чем-то отличном, об “иной природе”, но только о ком-то, кто, содержа в себе свою природу, природу превосходит, кто этим превосходством дает существование ей как природе человеческой и тем не менее не существует сам по себе, вне своей природы, которую он “воипостазирует” и над которой непрестанно восходит…» (По образу и подобию, с. 654).
[17] «Мир подвешен в событии, он всeгда возникает для нас в учреждающих событиях, начиная с самого важного – нашего рождения» (К. Романо, Авантюра времени, М.: Рипол классик, 2017, с. 218).
[18] См. подробное обсуждение этого положения в книге А. Нестерук, Смысл вселенной, СПб.: Алетейя, 2017, с. 61–67.
[19] Как это было выражено Мишелем Анри, «То, что достигается в Жизни, есть живущий… Живущий достигается в Жизни, полагаясь на то, что собственно достигается Жизнью в себе, отождествляя себя с Жизнью в само-откровении жизни как таковой, идентичном откровению Бога» (M. Henry, C’est moi la vérité (Paris: Editions du Seul, 1996), p. 73).
[20] Пер. еп. Кассиана, с. 434.
[21] St. Augustine, Contra Faustum, Book 32, 18, NPNF, Ser. 1, vol. 4, p. 581.
[22] Ср. Бл. Августин Гиппонский, О Троице, Кн. 12, XI, 16. М.: Образ, 2005, с. 86.
[23] Б. Паскаль, О геометрическом уме и об искусстве убеждать // Г. Я. Стрельцова, Паскаль и европейская культура. М.: Республика, 1994, с. 449 (перевод изменен, АН).
[24] B. Pascal, Pensées (tr. Louis Lafuma), 377 (280), p. 161. Другой исторический пример – работа прот. Павла Светлова «Вера и разум», написанная в 1916 году, в которой развивается мысль о том, что истинное познание предполагает любовь (Проф. прот. П. Светлов, Вера и Разум (Библейско-апологетический очерк) // Вера и Разум. Киев: Пролог, 2004, с. 33). Ср. с аналогичными рассуждениями В. В. Зеньковского в его «Основы Христианской философии» (М.: Канон, 1996, с. 139–140).
[25] Выражаясь богословски, проблема науки и религии (в ее иудео-христианском понимании) манифестирует специфику человеческого состояния после грехопадения, артикулируемого как мучительное раздвоение внутри личности между служением закону Божиему и закону греха (Рим. 7: 15–25). (Это мучительное раздвоение соответствует тому, что в философии называется парадоксом субъективности в мире быть частью мира, но в то же время его артикулирующим центром).
[26] См. D. Carr, Paradox of Subjectivity (Oxford: Oxford University Press, 1999), а также Нестерук, Смысл вселенной, с. 126–146.
[27] И. Кант, Критика практического разума, соч. т. 4. ч. 1., М.: Мысль, 1965, с. 426–427 (первые два курсива – мои, АН).
[28] Les phénomènes saturés – так называемые «насыщенные феномены» (или явления) не подпадают под рубрики обычных явлений, которые могут быть конституированы рассудком. Этим явлениям присущ избыток интуиции по отношению к их чувственному и концептуально выразимому содержанию. Именно поэтому концептуализация этих явлений принципиально проблематична. К таким явлениям относятся, например, непредсказуемые и непредвиденные события, такие как события рождения, смерти, ощущение своей плоти, феномен эротической любви, божественного откровения. Для подробного ознакомления с теорией насыщенных феноменов следует обратиться к следующим работам: Ж.-Л. Марион, Насыщенный феномен// С. А. Шолохова, А. В. Ямпольская (сост.), (Пост) Феноменология. Новая феноменология во Франции и за ее пределами. М.: Академический проект, 2014, с. 63–99; J.-L. Marion, Du sucroît. Etudes sur les phénomenes saturés (Paris: Presses Universitaires de France, 2001); Le phénomène érotique (Paris: Grasset, 2003).
[29] Здесь можно процитировать Семена Франка, отметившего, что любая попытка устранить проблему двойственности человека в мире или же «объяснить» ее посредством материалистического регресса в мышлении, с неизбежностью приводит к искаженной антропологии и космологии: человек есть «двухсоставное существо, и всякое учение о жизни, которое не учитывало бы одновременно этих двух сторон человеческого бытия, было бы неадекватно его подлинному существу… Структура нашего бытия сложна, антиномична, и всякое ее искусственное упрощение и схематизация искажают ее» (С. Л. Франк, Реальность и человек. СПб.: РХГИ, 1997, с. 70–71; ср. с. 200).
[30] С. Н. Булгаков, Философия хозяйства, Соч. в двух томах, М.: Наука, 1993, т. 1, с. 199.
[31] C. Romano, L’événement et le monde (Paris: Presses Universitaire de France, 1998), pp. 95–112; J.-L. Marion, “The Event, the Phenomenon and the Revealed”, in Transcendence in Philosophy and Religion, ed. J. F. Faulconer, (Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press, 2003), pp. 87–105; J.-L. Marion, Certitudes négatives, pp. 291–299.
[32] С. Сахаров (архимандрит), Преподобный Силуан Афонский. М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2002, с. 171.
[33] T. F. Torrance, God and Rationality (Edinburgh: T&T Clark, 1997), p. 188.
[34] Ibid., p. 182.
[35] Ibid.
Алексей Нестерук: University of Portsmouth, UK и Российская Гуманитарная Христианская Академия. E-mail: alexei.v.nesteruk@gmail.com.
© Алексей Нестерук, 2018
© НП «Русская культура», 2018