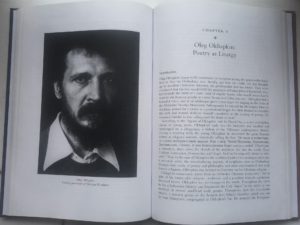В последний год жизни Олег Охапкин перечитывал Чарльза Диккенса. Он приходил раз в месяц к Наталье Ашимбаевой, брал у неё очередной том из полного собрания сочинений, обедал, и исчезал на месяц, до следующего тома. Кажется, он прочёл всё. Вспомнилось об этом в связи с этой публикацией британского исследователя творчества Олега Охапкина и его переводчика на английский язык Жозефины фон Цитцевитц. Мы впервые представляем на русском языке главу из её книги «Music for a Deaf Age», посвященную Олегу Охапкину. Дух Рождества явно посетил автора этих вдохновенных строк.
Поэзия как религиозное призвание
Как и многие его сверстники, Охапкин начал писать стихи ещё подростком. Некоторые из его стихотворений были опубликованы в официальном журнале «Молодой Ленинград». В 1970 году ему грозил арест по статье о тунеядстве, та же участь, которая постигла Иосифа Бродского в 1964 году. Благодаря усилиям писателей, окружавших Ефима Эткинда, Охапкина приняли в «группком» Союза писателей, благодаря чему он имел право жить в Ленинграде без постоянной работы. Он также какое-то время работал литературным секретарем у Давида Дара и его жены, писательницы Веры Пановой. Желание стать опубликованным поэтом, кажется, оставалось у него дольше, чем у других: он подал в «Лениздат» сборник ещё в 1978 году, но отказался выполнить просьбу рецензентов о внесении изменений. Похоже, это был момент, когда он оставил все надежды стать опубликованным поэтом. Впоследствии он принял предложение Пореша редактировать литературный раздел журнала «Община», больше не опасаясь, что связь с самиздатовским журналом поставит под угрозу его поэтическую карьеру.
Рассказ о том, как Охапкин пришёл к пониманию поэзии в качестве своего истинного призвания, мы знаем в разных интерпретациях. В приподнятом тоне Давида Дара это выглядит так: решив не делать карьеру певца, Охапкин планировал уехать из Ленинграда и отправился в прощальный тур по городу, который побудил его подняться на звонницу Смольного храма. Там он случайно встретил Иосифа Бродского, и произошёл следующий разговор:
– Ты кто? – спросил Олег. – Поэт, — ответил юноша. Привычное слово «поэт», произнесённое только что вернувшимся из ссылки Иосифом Бродским, сказанное на этой высоте, над городом поэзии, в золотом сиянии, по всей вероятности, прозвучало так, что обрело для Олега Охапкина какой-то новый, особый смысл, который стал смыслом всей его дальнейшей жизни.
В собственном рассказе Охапкина нет упоминания о намерении покинуть Ленинград, но он добавляет ещё одно примечание:
[Бродский] пригласил меня к себе домой, прочитал мои стихи и сказал: «Олег, вы действительно пишете хорошие стихи, и если это будет продолжаться, то через двадцать лет Нобелевская премия будет ваша.»
Сейчас невозможно установить, действительно ли Бродский пророчил Нобелевскую премию Охапкину и, если да, то было ли его замечание ироничным или серьёзным. Ясно одно, что сам Охапкин предал гласности своё знакомство с Бродским и одобрение последним его работы в 1970-х годах, увековечив эту встречу в стихотворении «Иосифу Бродскому» (1970, с. 53-56). Истории посвящения рассказывают многие сверстники Охапкина: ср. Литературное прозрение Кривулина после прочтения Баратынского (глава 2, раздел «Поэтическое прозрение») и видение Елены Шварц о царе Давиде (глава 4, раздел «Поэтическое вдохновение как мистическая практика»). В случае Охапкина история построена по образцу архетипического мифа, когда известный поэт торжественно одобряет новичка. Таким образом, этот «личный фундаментальный миф», сознательно или нет, является приемом или приемом, направленным на то, чтобы подчеркнуть принадлежность поэта к определенной традиции – классической традиции русской поэзии.
Виктор Кривулин написал об Охапкине, что он «строил свою жизнь “по слову”». Ссылаясь на поэму Охапкина «Голод» , он рассказывает, что Охапкин толковал физический голод, который он испытывал вследствие решения следовать своему поэтическому призванию и бросить регулярную работу, как форму религиозного послушания, а свою нищету считал сродни монашеской:
Он сам себя обрёк на голод «ради слова» и, фиксируя свое состояние в поэтической форме, говорил фактически о «голоде словесном», о неутолимой потребности героически подражать Богу-Слову. «Подражание Христу» в условиях сосновополянской хрущобы осознавалось как житие монаха-отшельника в пещере .
Слияние религиозных и литературных импульсов является одновременно причиной и оправданием маргинальной жизни. Причастность Охапкина к неофициальной литературе отстранила его от советской культуры, в то время как его укоренённость в церковной традиции выделила его среди неофициальных писателей-неофитов. В предисловии к посмертному сборнику «Избранное» вдова Охапкина Татьяна Ковалькова констатирует, что «выбор поэзии как духовного пути в жизни, как пути служения, отсекает всякую возможность жизни по законам ”мира сего”» . Многочисленные примеры в творчестве Охапкина подтверждают этот тезис. Важно здесь то, что он понимал поэзию не только как богослужение (в буквальном смысле этого слова), но как «подражание Христу», т. е. как свой личный крест. В стихотворении «Слово» (1972) поэт восклицает:
Все это, знать, судьбы моей веленье
и тяжесть крыл, и гнет ужасный, орлий.
<…>
И если это – крест, его приемлю (С. 147).
Схожую формулировку мы находим в стихотворении «Я не знаю надежды кроткой…» (1972):
Мне давно приглянулась горка,
На которой незримый крест
Распахнулся настолько горько,
Что вольнее не сыщешь мест.
Прохожу вдалеке и вижу:
Это место – оно моё (С. 128).
Примечательно, что в этом последнем примере поэт использует парадокс присущий самому христианскому учению: приравнивая свою жизнь к мучительному крестному пути, он определяет крест как единственный источник истинной свободы. Эту ношу иногда почти невозможно нести, но он никогда не уклонялся от неё: «Всё это, знать, судьбы моей веленье / и тяжесть крыл, и гнёт ужасный, орлий. // И если это – крест, его приемлю» («Слово», 1972, с. 147). В отношении поэта свобода означает в немалой степени и свободу творить.
Библейские стихи: от Ветхозаветного пророка к Пушкину и к Новому Завету
Охапкин – единственный среди своих сверстников, кто написал большое количество откровенно исповедальных стихов подробно описывающих его личные отношения с Богом. Большинство из них основано на библейских историях. Ветхозаветная фигура Иова, который остался верным Богу перед лицом сильных страданий, кажется, был излюбленным героем Охапкина, фигурирующим в длинном повествовании «Испытание Иова» (1973). Более короткие – тексты «Тяжёлые крылья», анализируемые ниже, а также «Дорога Иова», опубликованная в «Обводном канале» № 7 и не вошедшая в последующие печатные версии. Можно предположить, что Иов предоставил Охапкину концептуальную основу, которая позволила ему пересмотреть свои личные обстоятельства как испытания, данные ему самим Богом с целью проверки силы его веры:
Одно ещё оставил — дар,
то самое, с чего я гол,
Да тяжесть крыл, свободы жар,
Молитвы огненный Глагол.
(Тяжёлые крылья, 1972, с. 160).
Тема сопротивления звучит и в поэме «Судьба Ионы». Как и библейский персонаж, Иона Охапкина также пытается избежать своего пророческого призвания, но в конце концов признает, что не может от него отречься, хотя осознание этого означает, что он больше не может жить нормальной жизнью.
И всё же в его религиозной поэзии есть отчётливая литературность благодаря его глубокой привязанности к литературным традициям. Его «Воплощение» – уместная иллюстрация. Несмотря на отголоски Нового Завета – название, которое отсылает к Боговоплощению, – и упоминание Духа (Святого) в последней строке, – самые яркие образы взяты, тем не менее, из Пушкина. Любой читатель с базовыми знаниями русской поэзии, вероятно, истолкует шестикрылого серафима, (вдохновляющего изначально сопротивляющегося пророка) как первое лицо в хрестоматийном стихотворении Пушкина «Пророк». Обращаясь к прототипу поэта-романтика, Охапкин вписывает себя в традицию, которая идеализирует поэта как трагического героя, дар которого отделяет его от окружающих:
Не музой и не демоном храним
Я принял в дар провидческое око,
Покров мой – шестикрылый серафим –
Ужасный гений древнего пророка
И оттого так лёгок мой ярем.
Я верую, что Дух владеет мною.
Охапкин пользуется романтическим мифом через скрытое цитирование «Пророка» Пушкина. Однако у Пушкина шестикрылый серафим (книга Исайи, гл. 6) лишь условно соединяет поэта и пророка: ведь миссия поэта остаётся чисто поэтической. Между тем Охапкин разрабатывает библейское значение образа: «гений» его поэта-пророка поручает ему религиозную миссию, которую он должен выполнить посредством поэзии.
Более того, поэт у Охапкина осуществляет переход от ветхозаветного пророка к новозаветному апостолу, имеющему личный опыт встречи со Христом, что даёт ему право проповедовать благую весть от первого лица, подобно ученику Спасителя.
В этих случаях поэзия уже не «просто» выражает божественное вдохновение поэта, но становится Евангелием, откровением Христа. Апостол – очевидец, человек, который лично встретился со Христом и поэтому может с некоторой достоверностью рассказать о своём опыте. Стихотворение «Призвание» (1971) пересказывает отрывок из Евангелия от Луки 5:1–11, в котором Христос призывает первых апостолов («Отныне человеков суждено / Ловитве быть <…>»). Присутствие там поэта («Я был с Тобой в земле Геннисарета, / Иначе, мне привиделось все это». С. 116) доказывает, что Охапкин действительно не только проводит аналогию между поэтом и апостолом/учеником, но и отождествляет их: если поэт не апостол, все его существование только мираж и весь его труд напрасен.
В творчестве Охапкина мы находим изобилие библейских сюжетов, но в отличие от «Призвания», большинство из них представлены от третьего лица. Как правило, повествование от первого лица, как в «Призвании» или в поэме «Испытание Иова» (1973), указывает на то, что текст сосредоточен на религиозном призвании поэта, между тем как библейские сюжеты, рассказанные в третьем лице, – это плоды труда поэта-апостола.
Есть ещё одна особенность в изложении Охапкиным библейских сюжетов. Современники поэта, вслед за модернистами, тоже часто их пересказывали. Но версии Охапкина отличаются прозрачностью и близостью к оригиналу, хотя они часто длиннее оригинала или контаминируют в один рассказ эпизоды, которые в Библии трактуются отдельно. Кроме того, поэт часто добавляет свои комментарии или эксплицитное заключение, которого нет в источнике. Стихотворение «Вход Господен в Иерусалим» (1970) делает этот приём особенно заметным. Действие во 2-ой строфе описывает начало входа Иисуса в город («Вербное Воскресение», Евангелие от Матфея 21:6):
<…> Животные тихо
Побрели. Впереди за Кедроном вставал
Гордый город, что стольких почтив, предавал
Лишь пророков своих, и теперь, как шутиха,
Рассыпался пред Ним в лицемерье похвал (С. 88).
Однако заметки рассказчика о «гордом городе», который предает «пророков своих», в строках 3–4 соответствуют тексту в Евангелии от Матфея 23:37, где сам Иисус произносит их в качестве наставления. В 4-ой строфе мы возвращаемся к 21-ой главе Евангелия (8–9):
Люди ветви с дерев обрезали пред Ним
И стелили, стелили… кричали: «Осанна!
Славься, Сыне Давидов, зане осеним
Всенародно Тебя и придем покаянно» (Там же).
5-я строфа начинается собственным толкованием автора, а потом в чутком слухе поэта восхищенное «Осанна!» в Вербное Воскресение сливается с гневным криком толпы «Распни!» в Страстную Пятницу:
Люди встречали Его на царство.
Но, спустившись с горы и завидев город,
Он заплакал о нем, зная в сердце зверство
Тех, кто ныне восторжен, а завтра – Ирод,
Не иначе, каркнет пред римлян ражих:
«Кровь Его на нас и на детях наших!»
Крови! Крови! Осанна! Распни! Распни!
Иерусалиме! Голгофы огни!.. (С. 89).
Прозрачность рассказа подчеркивается простым языком с его несложным синтаксисом, который обходится без метафор. Несмотря на то, что используется привычная схема рифм (ababcdcd или abbaccdd), размер нерегулярный, и это, вместе с обильным выравниванием, делает концевые рифмы менее навязчивыми. Этот эффект усиливается редким приёмом созвучия, используемым в первых четырёх строках: рифма в последнем слове переносится слогом, следующим за последней ударной гласной, а не самой ударной гласной: гOрoд — Ирод и ‘звЕрство’ — ‘цАрство’.
Поэта интересуют не только окружающие Иисуса апостолы, он также выдает себя за других героев Евангелия, а также за святого Павла. В «Новом вине», например, он предстаёт в образе Лазаря, друга, которого Иисус воскресил из мёртвых (см. Иоанна: 11). Лирический герой претерпевает подобное переживание воскрешения, которое превращает его в «рождённого свыше» человека: «И вот, меня лишь нет в помине. / Зато есть новое вино / Твоей, о Господи, любови!» (1971, стр. 114). Молодое вино – это библейский образ, в то время как идея исчезновения «я», которое будет заменено Божьей любовью, перекликается со словами святого Павла: «уже не я живу, но живёт во мне Христос» (Галатам 2 19). -21).
Как отмечал Сергей Стратановский, Охапкин любит проецировать свой лирический образ на литературные архетипы: Летучего Голландца («Летучий Голландец», «Песня рулевого»), Улисса («Возвращение Одиссея»). С точки зрения архитектоники стихотворения, в которых он использует голос библейского персонажа, принадлежат к тому же жанру. Более того, учитывая, что адаптация библейских рассказов была популярной темой среди его сверстников, а также среди поэтов Серебряного века, любовь Охапкина к интерпретациям библейских историй, таким образом, следует рассматривать не только как религиозную, но и как литературную черту, которая сближает его с поэтами своего поколения.
Экскурс: проповедь национального?
Идеология христианского Семинара, в котором Охапкин принимал активное участие, базировалась на двух предпосылках. Программные произведения группы пронизаны убеждением в том, что вот-вот начнётся новый религиозный век, а также связаны с неославянофильской концепцией избранности России, которая предоставит России ведущую роль в надвигающейся религиозной эре.
Отношение группы к искусству и литературе как к способу служения Богу в этом контексте резюмируется в предисловии к избранным стихотворениям Охапкина в журнале «Община», написанном Владимиром Порешем:
«Русская культура, как и культура всего мира, вступает сейчас в новую творческую эпоху: начинается новый религиозный период в истории человечества. В связи с этим возрастает необычайно ответственность художника и требования к нему: художественное творчество – особый вид служения Абсолютному смыслу» .
Этот пьянящий мессианский “коктейль” смешивает собственный опыт молодых людей – их личное открытие Православия, жизнь в подполье – с отголосками славянофильской мысли девятнадцатого века и эсхатологическими ожиданиями мыслителей и писателей на рубеже двадцатого века. Многие стихи Охапкина свидетельствуют о подобном настроении. Однако в его случае настрой, кажется, определяется духом именно Нового Завета, авторы которого писали, в ожидании Второго пришествие, а вместе с ним и конца исторического времени, неизбежного, как и национальный энтузиазм сверстников.
Стихотворение «На смерть патриарха» (1970) – поэтическая иллюстрация этого явления. Оно толкует смерть главы Русской православной церкви Алексия I в 1970 г. как водораздел между старым и грядущим (религиозным) веком:
На грани эпох постигает смерть
Избранников Рока.
Еще мы в прошлом, но дней круговерть
Вдруг завихряется розой и смерч
И странно, точно разит, как меч,
Праведно иль жестоко.
[…]
Времени нож отсекает пласт
Безвременья века.
[…]
Христова Пасха…Христос воскрес!
Воистину с нами.
Тленный мрака покров разлез
И свет грядущий сквозит в разрез.
Охапкин написал множество стихотворений о России и «русскости» , в которых делается акцент на христианской сути России. Так, в стихотворении «Время Пасхи» (1969) славянофильская идея избранности России отражена в образе целительного «всероссийского сквозняка»:
Вся Россия, что есть христиан,
К Пасхе красные свечи затеплит,
И сквозняк всероссийский растреплет
Гребни тьмы, теневой океан (С. 37).
Та же мессианская идея просвечивает в «Завещании», стихотворении, использующем широкий спектр славянофильских образов: от упоминания монгольского ига и обозначения России «Святою Русью» до неявного отождествление Москвы с Иерусалимом в эпиграфе (цитата из Псалма 137). Последнее утверждение Охапкина, однако, не воинственно, а основано на отрывке из Евангелия и учит простоте и смирению: «Ибо то, что премудрых судит, / Лишь младенцам открыто будет» (стр. 121; ср. Матфея 18: 3).
Как верно отметил Сергей Стратановский, христианство по важности превосходит всякие национальные качества :
Щель, не в Европу на этот раз
И не в Царьград, чай, –
В небо – спастись – захламлённый лаз
Чаем расчистить, и пробил час,
Стадо спасет лишь смиренный Спас
Яростью отчей.
(На смерть Патриарха.-с. 68).
Поэт отказывается от всех политических или национальных пристрастий ради пути спасения, цель которого – само небо.
Подборка стихотворений, включенных Охапкиным в единственный опубликованный номер журнала «Община» подчеркивает превосходство религиозных интересов над национальными, и мистического откровения над церковными догмами. Единственным известным автором этого номера журнала, помимо самого Охапкина, является поэт-мистик и узник ГУЛАГа Даниил Андреев (1906-1959) с его длинным стихотворением о блокаде «Ленинградский апокалипсис» . Все чисто политические выборы, будь то Запад или Восток, отвергаются ради «третьего пути» – спасения, который приведёт русский народ прямо к Небесному Иерусалиму.
Щель, не в Европу на этот раз
И не в Царьград, чай, –
В небо – спастись – […]
Стадо удержит смиренный Спас
Яростью отчей.
Для Охапкина религия была не функцией национального, а скорее элементом, который имел власть утверждать национальное. Как правильно заметил Сергей Стратановский, Охапкин признавал нацию только тогда, когда она имела моральные, а в данном случае религиозные ценности.
Таким образом, русский религиозный патриотизм Охапкина принципиально отличается от того, что исповедовало национальное подполье, прежде всего в Москве. Отождествляя Россию с русским православием, поэт, настаивает на том, что христианские ценности должны иметь приоритет над любыми политическими соображениями, как это подробно изложено им в стихотворении «Письмо к православным»: «Я со всеми б к имперской прибег латыни / Но бесстрашно Слова служа святыне, / верю …» (1972, с. 117). Здесь обыгрывается двойное значение слова как Слова Божьего, ставшего плотью, то есть Христа (Иоанн,1) и литературного слова. Фактически патриотизм Охапкина обнаруживает свою прочную привязанность к русскому языку, когда он почти идентифицирует литературное слово со Словом Божьим, «литературное слово» практически становится у него синонимом «русской литературы».
Поэты живые и мёртвые
Непропорционально большое количество стихотворений Охапкина посвящено либо товарищам по литературному подполью, либо умершим классикам. Ещё один приём, почерпнутый из Серебряного века, взаимное посвящение и обильное использование эпиграфов, заимствованных у других поэтов, было обычным явлением в неофициальной поэзии. Но мало кто посвящал стихи с такой настойчивостью и такому широкому кругу авторов, как Охапкин. Посвящение друзьям-поэтам, наряду с преданностью классике, неявно помещает их в ту же категорию классиков. Одновременно реализуется и ожидание читателя в узнавании имени автора, адресата посвящения или цитируемого эпиграфа с такой же лёгкостью, как он узнает имя или слова Пушкина . Каким бы ироничным это ни было, данный приём, тем не менее, иллюстрирует претензию неофициальных поэтов на включение в литературный канон и на уверенность, какой бы хрупкой она ни была, на своё место рядом с Пушкиным, Мандельштамом и др. Посвящение, кажется, является основным способом реализации Охапкиным того, что Кривулин называет «вертикалью времени», то есть расширение круга собеседников поэта посредством интертекстовой беседы со знаменитым предшественником.
Есть и другие стилистические особенности, которые выдают принадлежность текстов Охапкина к неподцензурной поэзии, в частности явная эклектика как сюжета, так и “регистра”. Безмятежные воспоминания о природе, библейские истории стоят рядом с текстами, в интенции буддийскими (ср. «Голубая луна») или языческими. В некоторых стихотворениях («Гесперида» ) языческие и христианские мотивы объединены без явного противоречия между ними. Библейские истории, такие как «Вход Господен в Иерусалим», «Баллада о блудном сыне» и «Мария Магдалина» рассказываются ненавязчиво, с использованием естественного, похожего на прозу синтаксиса с сильно подчеркнутыми строками. В этих стихах свободно используется современный русский язык, который включает ненормативную лексику (типа «хозяин скупым и жестоким / дерьмом оказалcя». – Баллада о блудном сыне, стр. 90) рядом со старославянским. Особенно ярким примером является «Призвание», в котором почти дословная цитата из Библии («Не бойся! / Отныне человеков суждено / Ловитьве быть») сочетается с обычным разговорным оборотом: «Ты, Симон, в рыбьем весь. Пойди, умойся!» (стр. 116). Языковой сдвиг подчёркивает переход от библейского “репортажа” к личным комментариям или живописанию. В других местах разговорная интонация прерывается высокими, торжественными регистрами, напоминающими язык оды восемнадцатого века. Действительно, Охапкин ведёт «диалог сквозь века» с поэзией семнадцатого и восемнадцатого веков. Любовь Охапкина к Державину, который “проверял” границы оды, возможно, вдохновила его на собственную игру языковыми формами.
Однако самая доказанная связь между Охапкиным и восемнадцатым веком – это Бродский, чьи эксперименты с формами XVIII века хорошо задокументированы. В стихах Охапкина есть многие из архаических стилистических особенностей, (знакомых нам по стихам Бродского), которыми восхищался известный старший друг. Наряду с использованием торжественных, возвышенных регистров – эксперименты с силлабическими размерами (например, «Ночное плавание», 1968, с. 26), – было и увлечение «большими стихотворениями» на несколько страниц. Многие из них содержат октетные строфы, знакомые по ранним стихам Бродского, хотя Охапкин по большей части не копирует его “авантюрные” рифмованные схемы. В 1995 году Охапкин был удостоен Державинской премии за вклад в развитие русской оды. Ни одно из длинных и торжественных стихотворений Охапкина не соответствует строгим формальным характеристикам оды восемнадцатого века: его строфы гораздо свободнее, и многие из стихов повествовательны, но во многих из них есть отчётливая одическая “атмосфера”. Как отмечал Денис Ахапкин, писавший о Бродском, часто решающим было «стремление автора соотнести стихотворение каким-либо образом с традицией». Эклектичная многогранность текстов Охапкина включает формы архаичной просодии, романтическую самоидентификацию, модернистские приёмы и темы с хорошей дозой иронии железных 1970-х годов.
Архаизмы обогатили и омолодили язык, доступный поэту в те годы. Можно сказать, что поэты 1970-х годов культивировали определённый авангардизм через архаизм. Хотя наличие архаизмов было особенно заметно в творчестве Охапкина, этот поэтический приём отнюдь не был уникальным. Многие из его сверстников, в том числе Елена Шварц, Виктор Кривулин и Александр Миронов, свободно совмещали высокий и низкий регистры и экспериментировали с архаичной речью, в том числе старославянской.
Лингвистические архаизмы, а также культивирование «архаичных» сюжетов из классической литературы и Священного Писания означали принадлежность автора к иному культурному слою, отличному от советской «высокой» культуры. Они также были способом обновления «высокого» регистра, поскольку он в современном языке был безнадежно запятнан советскими ассоциациями. Владимир Пореш интерпретирует использование Охапкиным церковнославянского и славянского синтаксиса как свидетельство того, что он «воцерковляет современный русский язык». Дмитрий Бобышев утверждает, что для Охапкина архаизмы играли роль «вечного вина религиозной Истины». Однако мы видим, что использование старославянского языка имело важную культурную, даже политическую функцию. Смешивание современного и устаревшего языков, высоких и низких регистров – распространённый приём у поэтов неофициальной культуры .
Поэзия как тайная молитва
Однако в случае Охапкина есть дополнительное объяснение пристрастия поэта к архаизмам, и в особенности к церковнославянскому языку, который он знал с детства. В годы, когда в стране действовало крайне мало церквей, Охапкин полагал, что поэзия может популяризировать литургию. Таким образом, вполне естественно, что поэт использовал церковнославянский язык, чтобы сократить расстояние между первоначальным литургическим языком и светской поэзией конца ХХ века. Как богослужебный язык проникает в поэзию Охапкина видно из таких текстов:
Одинок мой голос и покоен,
Не покойник, но и не
То чтобы живой, но с колоколен
Как бы снятый, оттого вдвойне
Грустный звон, вечерний, позабытый,
Может статься, кем-то на Руси
Недопетый, в воздухе зарытый,
И откопан вдруг иже еси…
(Грустный звон. 1971. С. 107)
В интервью, данном в 2004 г., Охапкин повторяет эту мысль: «Сейчас, когда открылось столько храмов, где звучит настоящая литургическая поэзия, мои стихи уже не так нужны» . Возможно, заявление маргинального светского поэта о том, что его поэзия выполняла литургическую функцию, кажется самонадеянным и даже дерзким. Но на самом деле Охапкин, утверждая, что «ода сродни псалму» , высказывает вполне ветхозаветное понимание поэзии. Псалтирь является и собранием лирических стихов, и одновременно литургическим молитвенником колен Израиля, который вошёл и в литургию христианских церквей. В ней поэзия тождественна литургии, а литургия – поэзии.
Псалмы, охватывающие весь спектр человеческих переживаний, от возвышенной радости до крайнего уныния и не уклоняющиеся от выражения сомнения в Боге, сохраняя при этом глубоко сокровенную личную веру, дают нам ключ к прочтению этих стихов Охапкина, в которых лирический герой ощущает пропасть между ним и Богом («С утра зарядило», «Испытание Иова»). Или этот пример из стихотворения «Какое солнце…» (1967, с. 11):
Шепчу в припадке грусти — Боже!
Твой мир … зачем и я не с ним,
Когда, как он, пылаю тоже,
Когда, как он, непоправим!
Какими бы сильными ни были минутные сомнения поэта («Не находя ни Господа, ни Спаса / в душе моей»), последняя нота всегда остаётся ноткой надежды и глубокого, неудержимого утверждения жизни: «Я смерть пою. Но жизнь поёт во мне / Надеждою …. Не сам ли я – даренье без того, / Что отнято?»
Тем не менее, есть важный момент, который следует учитывать: псалмы являются частью священного канона как для евреев, так и для христиан. Христиане верят, что Священное Писание не только «говорит о» Боге, но и раскрывает божественную реальность; оно позволяют людям познать Бога. Иконы – это широко распространённая форма священного искусства, имеющая такую же силу, поэтому они должны строго соответствовать установленной канонической форме, которая отсылала бы к сути догматов веры. Следовательно, стихи, которые именуются «христианскими» или «православными», также должны точно соответствовать церковным догматам. Охапкин, по крайней мере, не стремился чётко отделить своё литературное творчество от религиозных догм. Однако некоторые особенности его поэзии не позволили ему остановиться на строго догматических текстах. Проблема заключается даже не в эклектизме поэтической речи, где допускаются одновременно высокая риторика и сомнения, гимн и сквернословие. Гораздо более еретичными выглядят определённые мысли в отношении к «Слову». Охапкин не может не проследить родство между «Словом» – изначальным творческим Словом, которое в Евангелии от Иоанна отождествляется с Иисусом Христом, и литературным словом. Это родство, возможно, подтверждает религиозный труд поэта. Но, стоя на этой позиции, будет поощряться и «поклонение литературному слову», о чём свидетельствуют отрывки из уже упомянутой длинной поэмы «Испытание Иова». В этом стихотворении свободно смешиваются элементы из истории Ветхого и Нового Завета (книга Иова и Апокалипсис, ставшая эпиграфом). Вначале рассказчик от первого лица в порыве сомнения ищет утешения в книге Иова. Однако вскоре мы понимаем, что он, – в первую очередь не читатель, а сам автор. Он писал стихотворение, которое не смог закончить (‘И выпало перо / из рук моих…’), и это его творение внезапно обретает самостоятельную жизнь: само Слово обращается к поэту, звучит внутри его собственного существа, а также в его тексте. Это событие напоминает религиозное видение:
И внутрь меня разверзлась дыра.
И в глубине рече Глагол Предвечный:
[…]
Не Аз есмь Альфа и Омега,
Начало и Конец? Дерзай же, дух!
Я сотворил тебя!
Тот факт, что это Слово идентифицируется как «Вечное Слово», немедленно расширяет его значение за пределы литературного текста. Следующая цитата из Апокалипсиса, представленная как произнесение Слова и изобилующая церковнославянизмами, подразумевает, что Слово действительно представляет Христа. Как обычно, Охапкин позволил себе небольшое отклонение в отношении воспроизводимого им библейского текста: в Апокалипсисе 21:6, слова: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец» произносятся Богом Отцом, сидящим на престоле, а не Христом – Словом Божьим. Последующие высказывания в разговорной речи явно принадлежат поэту. В Библии Христос никогда не берёт на себя роль творца. Более того, «дух», к которому обращается Слово, не присутствует в Апокалипсисе. Тем, кто испытывает искушение читать «дух» как «Святой Дух», следует подчеркнуть, что, согласно учению Церкви, Святой Дух является одной из ипостасей Бога, наряду с Отцом и Сыном, а не творением того и другого. Так или иначе, по мере развития стихотворения становится ясно, что «дух» представляет самого поэта.
И в образе Олега
Ты – недр Моих исторгнутый издох.
Возьми же сей Глагол и победи Им
Ничтожество твоё, ничтоже – дрожь.
Теперь поэт вписывает свою личность в стихотворение через сложную цепочку образа «Олег» (родительный падеж «Олега», является удобной рифмой для «Омеги»). Однако, учитывая преобладание пушкинских мотивов в этом и других стихотворениях, он также несёт в себе отголоски «Вещего Олега», первого киевского князя (умер в 912 г.), национального героя и главного героя «Песни о вещем Олеге» Пушкина (1825). Упоминание Слово / Глагол относится к Слову, предположительно произносящему эти строки, в то же время – этот призыв поверить на слово и победить – почти цитата из пушкинского «Пророка».
Ссылка на «Пророка», в свою очередь, адаптировано вводит в стихотворение контекст Ветхого Завета: Исайя, 6. Однако, в конечном счёте, поэта не призывают, как пророка Пушкина, «глаголом жечь сердца людей!» , но победить собственное ничтожество. Таким образом, «Испытание Иова» не является библейским стихотворением и упоминание Иова не может вызвать образ архетипического пророка. Настоящая тема – неуверенность писателя в собственных силах, и Охапкин сравнивает писательский “упадок” с кризисом религиозной веры. Таким образом, то, что мы, как читатели, являемся очевидцами, категорически не является посвящением в пророчество, но призывом к поэту преодолеть своё собственное несчастье, то есть сесть и писать, и писать хорошо. Следующие строки подтверждают эту интерпретацию, поскольку они, кажется, напрямую относятся к ситуации подпольного поэта, который может столкнуться с лишениями и даже смертью в результате любви к словам (по общему признанию, в гиперболической формулировке): «Но берегись! Уж многим повредили Слова, от коих смертью да умрёшь!» В этой строке «Слово» безвозвратно превращается в «слова», литературные слова. Библейские образы в этом стихотворении явно неканоничны, и это справедливо для большого количества стихотворений Охапкина.
Поэзия природы
До сих пор дискуссия касалась исключительно «общественной», евангелизированной функции поэзии Охапкина. Однако в их религиозности есть второй, частный и мистический элемент. Обсуждение религиозных аспектов поэзии Охапкина было бы неполным без упоминания понятия молчания, которое доминирует во многих его стихах и представлено как естественная среда обитания поэта, ищущего близости с Богом в своём творчестве:
Раскачать [мир] размером времени, окоём
Ширить звучными стихами, с Господом быть вдвоём
[…]
Молчанье — моя страна.
Молчание в поэзии Охапкина неразрывно связано с его второй великой темой, с грандиозной риторикой библейского повествования и темой русскости и православия – традицией поэзии природы. Охапкин написал большое количество стихотворений о природе в традициях Ф.Тютчева, Н.Заболоцкого, Б.Пастернака. Как правило, в этих стихах представлены спокойные и обманчиво простые наблюдения, создающие впечатление, будто они “заняты” исключительно внешним миром, но на самом деле они предлагают глубокое понимание внутреннего мира человека и часто описывают его духовные поворотные моменты.
Охапкин выделялся среди своих сверстников почти полным отсутствием городских сюжетов – общих или специфических для Ленинграда, – которые так выделяются в творчестве Кривулина, Стратановского и Шварц. Более того, культурный андерграунд никогда не являлся главным предметом его размышлений. Охапкин не воспевал «подпольного человека», а его отсылки к неофициальной сфере, как правило, довольно тонко выражены. Тем не менее, они прозрачны для посвящённого читателя, например, в «Медной лире», где поэт так описывает своё окружение: «обычная бедность, злобная среда» (1972, с. 122). Но, как правило, упоминания Охапкина о подполье скрыты в образах природы и часто связаны с погодными явлениями. Хорошим примером является «Шабаш метели», в котором метель является символом того времени, в которое, по его мнению, он жил: «И прочитал метели почерк. Метель теней кружилась в плясе». Образы метели, пляски на костях, порождающие холодный хаос и дающие автору увидеть мельком «крыл чертей», – отголоски образов из стихотворения Пушкина «Бесы» (1847). Писатели, в том числе Достоевский и Булгаков, считали метель символом объединения политических и духовных проблем. Охапкин адаптировал эти голоса для своих целей и представляет развязку, которая сильно отличается от той, что в стихотворении Пушкина. Если пушкинские «Бесы» заканчиваются на ноте дурного предчувствия и беспокойства, но Охапкин связывает метель с радостной надеждой: «Но я-то знал, но я-то знал / что мир по-прежнему прекрасен». Есть и ещё два стихотворения, которые аналогичным образом сосредоточены на зимнем пейзаже, представляющем всеохватывающую «заморозку» советских 1970-х годов, но заканчиваются они также образом надежды, часто надежды на перемены, – это «Страстной неделей» и «Гляди в окно».
В стихотворении «Страстной неделей» (1972) изображения природы / времени года служат фоном для пересказа наиболее важной истории Нового Завета: смерть и воскресение Христа происходят в сердце поэта. Он внутренне движется от «Так обезжизнел в нашей широте / Любой из нас, пока зима стояла» (стр. 134) к грандиозному финалу – Дню Пасхи: Христос Воскресе! — Возвещаю вновь. / … И это — люди, земли, поднебесье / И всё вокруг, и в нас во всех – любовь.» (с. 135) . В стихотворении «Гляди в окно» природа – это откровение самого Христа, и, в свете мессианской надежды всего творчества Охапкина, всё творение являет нам божественное спасение:
Но сердцу не забыть одно:
Небес нетленное рядно
И солнце — ярый, ясный глаз —
Нерукотворный Спас.
Самое главное, что природа – это место гармонии, а тишина – неотъемлемая составляющая этой гармонии (ср. «Молчанье древа»). Даже стихия ярости, в конечном итоге, приводит к тишине: в «Перемене» бушующая за окном ночная метель отражает смятение в душе поэта, но, когда она утихает «до самой тишины» (1968, 22), он обретает свою неотъемлемую свободу.
Возвышенная риторика библейских стихов может скрыть тот факт, что глубочайшие религиозные откровения Охапкина на самом деле развиты в стихах о природе. Именно здесь, в пейзаже, который прежде всего проявляется как собственный иконостас Бога (“И в нижней бездне с позолот / Небес иконостаса – / Лик непостижный Спаса”. – «Какое счастье слушать мир», 1969, с. 40), видно, что искатель-мистик приближается к Богу, хотя и не достигает желанного единства.
В стихах о природе поэт больше не пророк, апостол или евангелист. Вместо этого он паломник или странник. Ночью, когда прекращается свет и неистовая активность дня, природа открывает поэту суть вещей. В стихотворении «С вечера до трех пополуночи» (1970) Охапкин использует образы природы для отражения внутреннего процесса как на символическом, так и на формальном уровне. Он начинает с типичной вечерней сцены: «Вечер я брёл соснового бора…». Эта строка – первая в серии простых описательных утверждений. Но по мере того, как вечер превращается в ночь, строки становятся длиннее, с расширением и усложнением синтаксиса. Сумерки знаменуют переход от анализа к безмолвному созерцанию и от мысли к интуиции: «мысли мои сошлись на молчанье в итоге». К концу стихотворения наблюдение за природным миром сменяется размышлением о человеческой природе. Герой осознал потребность человека в Боге. Более того, его называют поэтом, и теперь он понимает, что его стихи служат инструментом, приближающим его и других к Богу:
Я увидел вблизи, настолько природа
Величавее нас, как наша порода
Истерична, когда Творец нас покинет,..
[….]
Мерный времени труд, тебя, моя лира,
Древний Духа познать образ в грозном хоре
(cc. 71-72)
Любимый Охапкиным сумеречный час – архетипический романтический образ. Техника использования образов природы для изображения внутренних состояний человека также восходит к романтизму, где бессонные сумеречные часы рассматриваются как промежуточное состояние, которое даёт озарения, недостижимые для рационального ума. В таких стихотворениях, как «Песня о побережье», Охапкин придерживается этой традиции:
Ночь размоет горизонты, небом оденет мир
[…] где
Земля — голубая чаша, полная тишины
[…]
Ночь приблизит мне дорогу — Млечный великий Путь
(1970, с. 69)
Поэт испытывает здесь чувство единения с окружающим его миром, который расширяется до тех пор, пока он не воспримет свой собственный путь как равный тому, по которому идёт сама земля. Это глубокий религиозный опыт. А катализатором выступает ночь, наполняющая тишиной землю, а затем – и существо поэта.
Творческое молчание
В других стихах речь идёт об ином аспекте тишины, а именно о тишине как созидании. Молчание – благодатная почва, в некоторых случаях даже необходимое условие для литературного творчества:
Что неслышно творится во мне,
Это всё происходит в природе.
[…]
И такая стряслась тишина
В этот творческий миг прорастания
Тишина к тому же является исходной и предельной формой поэзии. Через тишину поэзия отделена от мира и его правил, так поэт трактует её в «Медной лире» (1972):
Едва ли чем кичась в привычной нищете,
Владею лишь одним – игрой на медной лире.
<…>
<…> а тишь на высшей ноте
Достроила душе молчания ковчег (С. 122).
«Медная лира» определяет религиозное призвание поэта как задачу построить из тишины убежище для души. Привлекает внимание употребление слова «ковчег». Библейский ковчег, построенный Ноем по велению Бога (Книга Бытия 6–9), приютил и, в конечном счёте, спас праведника от Божьего наказания. Искусный намёк на библейский сюжет наделяет тишину религиозным смыслом и в то же самое время призывает читателя искать соответствия между враждебным миром, на “задворках” которого живёт поэт, и ветхозаветным потопом. Здесь библейская ссылка рядом с литературной – на «Осень» Пушкина. Не только через обращение к этому времени года (в «Медной лире» есть осенние образы), оба стихотворения написаны шестистопным ямбом и посвящены одной теме – уход от мира в поэзию.
Отсылки и заимствования типичны для неофициальной поэзии в целом, характерны они и для «поэзии тишины» Охапкина. Последняя строфа стихотворения «Легко мне, Господи, молчать!» (1968), в которой он толкует тишину как первоначальную музыку и совершенную поэзию, является прозрачной отсылкой к «Silentium» Осипа Мандельштама:
Лишь эта музыка права.
Она молчанию сродни
<…> (С. 28).
В русской поэзии тема увлечённости говорением как греховным актом, заслоняющим истину, восходит к Федору Тютчеву, у которого Мандельштам заимствовал и заглавие, и сюжет своего стихотворения. Но у этой темы есть связь и с библейской традицией мудрости (Книга притчей Соломоновых 17, 18, 21), где язык выступает первичным инструментом греха:
О, если б грешный мой язык
Из подъязычной тишины
Извлёк бы истину на миг,
То в ней звучал бы стон струны!
(«Легко мне, Господи, молчать…»,1968. С.28).
Поэт, способный проникать в тишину, является «истинным поэтом» и равен богослову или даже выше него:
<…> В молчанье этом
Ты стал бы истинным поэтом,
Узнал бы цену вещих слов,
Евангелист и богослов
(Молчанье древа. 1971. C. 100).
Понятие тишины, по Охапкину, не ограничивается пресловутым призывом избегать излишних необдуманных изречений. Тишина является способом, которым поэт изучает мистическую глубину бытия. Она эксплицитно связана с молитвой, т. е. личным общением человека с Богом, а не с соблюдением закона. Нигде это не выражено так ясно, как в стихотворении «Слово», где литературное слово отождествляется с Христом посредством употребления прописной буквы. А в другом месте оно к тому же описано как «откровенье явленного Слова», намекая на роль Христа как откровение божественного замысла в мире:
Едва ли знал, что в себе таило
Дарованное мне от Бога Слово,
Когда вначале явлено мне было
Все, что душа любить была готова.
<…>
И это было – светозарный образ
Молчания, творимая молитва (С. 147–148).
Тайна, которая заключается в божьем даре поэзии, – тишина, а тишина и есть молитва. Опять Охапкин выражает вполне каноническую мысль. Безмолвная молитва является одним из краеугольных камней христианской мистической и монашеской традиции, включая исихазм, аскетическую практику монаха-инока. Канонические основы безмолвной молитвы изложены в писаниях отцов-пустынников .
Заключение
В творчестве Охапкина тишина выступает как мотив, а не функция. Другими словами, Охапкин говорит о тишине в артикулированных, мелодичных стихах, цель которых – передача опыта. Его молчание не является, как в случае с А.Мироновым, выражением смыслового кризиса, наоборот: «Есть и в молчаньи внятный смысл … / Когда кончаются слова / в права вступают тишь и мудрость». («Медитация», 1969, стр. 50). Его понимание поэзии как средства передачи наблюдений и откровений традиционно, но свежо.
Охапкин не охвачен скептицизмом и не сомневается ни в коммуникативной функции поэзии, ни в целостности передаваемых смыслов. Этот факт резко отличает Охапкина от неоавангардных сверстников, таких как Миронов, чьи стихи, постулируя тишину как нечто, что отказывается от смысла, используют её как способ высветить кризис референтного языка. Нет никаких свидетельств того, что Охапкин придерживался подобной философии или действительно ощущал кризис смысла литературного слова. Его философия слова намного проще, чем у его сверстников, и всё ещё связана в основном с референтными (соотносящимися с реальными, не абстрактными понятиями. – прим. ТК) качествами слова.
Отождествление литературного слова со «Словом» Бога, распространённое среди его сверстников, в его случае является подлинным показателем религиозного понимания поэзии: поэзия – это Евангелие, а литургическая молитва объединяет людей в общении с Богом. Но в конечном итоге самые «религиозные» стихи Охапкина — стихи о тишине – выводят поэта за пределы пространства и времени в другую сферу, где поэзия и вечность сосуществуют. Это сокровенная молитва мистика, который ищет Бога в уединении, вдали от мира, которому чужд выбранный им образ жизни.
Подводя итоги, можно сказать, что для Охапкина поэзия изначально является молитвой во всех её формах, т. е. и литургией, которая объединяет верующих и проповедует благую весть, и частной молитвой мистика. Мистик-отшельник устремлён к Богу и молится в одиночестве, далеко от мира, который рассматривает выбранный им путь, как чуждый.
Впервые опубликовано: Josephine von Zitzewitz. Poetry and the Leningrad Religious-Philosophical Seminar 1974-1980. Music for a Deaf Age. – Legenda: UK, 2016.
Перевод с английского Татьяны Ковальковой
На заставке: Степан Колесников (1879-1955). Рождество
О русско-сербском художнике Степане Колесникове https://barcaffe.ru/hudozhnik-stepan-kolesnikov-1879-1955-russkij-i-serbskij/
© Josephine von Zitzewitz, 2016
© Татьяна Ковалькова,2020
© «Русская культура»,2021